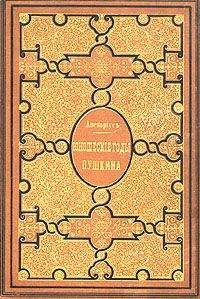— А про Кантемира, небось, и забыли или не слыхали?
— Кантемир не поэт: у него рубленая проза.
— Вот как!
— Не я один это говорю: я от многих слышал. По качеству же стихов первым поэтом хотя и принято у нас считать Державина, но стих у него чересчур уж напыщен, у Жуковского, у Батюшкова он гораздо натуральнее и благозвучнее…
— Каков критик! — с снисходительным пренебрежением заметил министр. — С чужого, знать, голоса поет. Господин профессор! Не угодно ли вам теперь приступить к допросу?
Один из экзаменаторов покорно преклонил голову и обратился к Пушкину:
— Вы, прочитав малую толику, запомнили, несомненно, кое-что и наизусть?
— Очень многое.
— Например… ну, хоть бы карамзинскую "Марфу Посадницу"…
— Прочитать?
— Прочитайте, только с подобающей интонацией и экспрессией, не глотая слова и запятых.
— "Раздался звук вечевого колокола, — начал «подобающим», неспешным и торжественным голосом Пушкин, — и вздрогнули сердца в Новгороде. Отцы семейств вырываются из объятий супруг и детей, чтобы спешить, куда зовет их отечество. Недоумение, любопытство, страх и надежда влекут граждан шумными толпами на великую площадь…"
Профессор движением руки остановил маленького декламатора.
— Начало, конечно, кому не известно, — сказал он. — А помните ли вы художественное описание появления Марфы среди народа?
— "Еще продолжается молчание, — не задумываясь, задекламировал опять Пушкин. — Чиновники и граждане в изумлении. Вдруг колеблются толпы народные, и громко раздаются восклицания: "Марфа, Марфа!" Она входит на железные ступени тихо и величаво; взирает на бесчисленное собрание граждан и безмолвствует… Важность и скорбь видны на бледном лице ее…"
Пушкин, как следует, на минуту здесь замолк, чтобы дать слушателям вглядеться в воссозданную им перед их внутренним взором картину.
— Вот это музыка слов, истинная поэзия, хотя и в прозаической форме! — воскликнул граф Разумовский. — Память у вас довольно счастливая, надо сознаться, и читаете вы весьма и весьма сносно.
— Не позволите ли, ваше сиятельство, перейти к грамматике? — обратился к нему экзаменатор.
— Извольте.
— Пожалуйте-ка, молодой человек, к доске.
Пушкин подошел к саженной доске и вооружился мелом.
— Вы, как юнец, отдавали только что предпочтение перед маститым нашим поэтом-исполином Державиным юному поколению поэтов, не достойных подвязывать и ремни на сандалиях его. Я продиктую вам такие перлы его музы, каких вы ни у кого из иных прочих со свечой не сыщете. Пишите:
Спустил седой Борей Эола
С цепей чугунных из пещер…
— Я и так знаю, — подхватил мальчик, -
Ужасны крылья расширяя,
Махнул по свету богатырь…
Стихи звучные, но все-таки, по моему мнению…
— Вашего мнения не спрашивают! Извольте писать!
Александр крупным детским почерком, косым и небрежным, живо исписал всю доску сверху донизу четырьмя приведенными строками.
— В правописании вы слабы, — заметил профессор и указал пять-шесть орфографических ошибок, после чего задал еще несколько грамматических вопросов. Ответы точно так же были довольно сбивчивы и нетверды.
Между тем директор Малиновский, как видел издали Пушкин, наклонился с просительной миной к министру, и тот, кивнув головой, громко объявил:
— Начитанность ваша отчасти вас еще выручает. Посмотрим, каковы ваши познания в иностранных языках. Начнем с немецкого.
Пушкин оторопел.
— Нельзя ли мне отвечать из одного французского?..
— А немецкого вы, значит, совсем не знаете?
— Совсем! — брякнул он, чтобы только поскорее развязаться.
— Гм… И читать даже не умеете?
— Читать, конечно, умею.
— Так вот прочтите.
Мальчик из поданной ему немецкой книжки прочел довольно бегло несколько строк.
— Ну, этого на первый раз, пожалуй, и достаточно, — смилостивился министр и отнесся по-французски к сидевшему тут же за столом маленькому старичку в напуденном парике: — Мосье де Будри! Не соблаговолите ли теперь вы?..
Де Будри, несмотря на свои преклонные лета, чрезвычайно живой и подвижный, вертя в пальцах черепаховую табакерку, предложил Пушкину простой грамматический вопрос, но предложил по-русски, уморительно коверкая слова. Пушкин, с трудом подавляя улыбку, отвечал ему без запинки на самом чистом парижском наречии. Француз весь так и встрепенулся и не замедлил сам перейти на свой родной язык.
— А! Так вы, милый мой, читали, быть может, и наших великих классиков?
— Расина, Корнеля, Мольера? — переспросил Александр. — Читал, так же как и философов Руссо, Вольтера…
— Руссо и Вольтера! — вырвалось у графа Разумовского, и он многозначительно переглянулся с присутствующими. — Тоже, видно, брали без спроса из библиотеки отца?
— Да…
— Будем надеяться, что вы их хотя бы наполовину не поняли.
— Ну, Расин, Корнель и даже Мольер безвредны, — вступился мосье де Будри.
— Я умею читать Мольера и на разные голоса, — вызвался ободрившийся опять Пушкин.
— О! О! На разные голоса! Не разрешите ли, ваше сиятельство, прочесть ему нам для образчика какую-нибудь мольеровскую сценку?
— Отчего же, пускай прочтет. Выбор пьесы, молодой человек, мы предоставляем вам.
Особенно глубоко запечатлелся в памяти Александра один любимый его отцом и дядей мольеровский диалог. Он слышал его столько раз, что помнил не только обе роли от слова до слова, но и самое выражение голоса обоих. Точно записной импровизатор, охваченный вдохновением, он забыл, казалось, даже где он и, без всякой уже робости, передал диалог почти безупречно.
— Бесподобно! Изумительно! Не правда ли, милостивые государь. — воскликнул по-французски де Будри, озираясь кругом с таким торжествующим видом, точно он сам так блистательно подготовил молодого импровизатора. — После такой аттестации, ваше сиятельство, я полагаю, было бы просто грешно испытывать его в грамматических мелочах. А незнание немецкого языка более чем извинительно.
Профессор немецкой словесности, человек еще молодой, но строгого и неприступного вида, начал было протестовать; но министр, не желая затягивать экзаменовку по другим предметам, принял сторону де Будри.
По географии и истории повторилось то же, что и по русскому языку: сбиваясь в некоторых, самых элементарных вопросах по физическому описанию земли, не зная твердо ни одного года исторических событий, Пушкин так осмысленно, с таким увлечением передавал разные любопытные подробности нравоописательные и политические, что сам граф Разумовский не скрыл своего одобрения.
— Что вы учили по обязанности, то усвоили плохо; что читали без спроса, то усвоили прекрасно, — сказал он и, обернувшись к директору Малиновскому, прибавил вполголоса: — Я рекомендовал бы вам, сударь мой, обратить на сего птенца особенное ваше внимание: он сколь необуздан, столь и даровит. В арифметике он, я уверен, всего слабее.
Граф не ошибся. Сухая цифирь, требующая сосредоточенного внимания, была для богатого фантазией, но бедного терпением начинающего поэта всегда непреодолимым камнем преткновения. Написав на доске мелом продиктованную ему задачу, он как только приступил к ее разрешению, так и перепутал. Тщетно профессор математики, по-видимому также расположенный в пользу мальчика предшествовавшими удачными его ответами, пытался навести его на истинный путь: Пушкин, точно в дремучем, топком бору, забирался все глубже в непроходимую трясину, пока совсем не завяз; тогда он безнадежно опустил голову и положил мел.
— Нет, не умею…
— Довольно! — решил министр.
— Дозвольте мне, ваше сиятельство, предложить ему еще только один-другой теоретический вопрос, — вступился профессор, — задачка, пожалуй, была для него не в меру замысловата-с…
— Довольно! — повторил граф и внушительно кивнул головой Пушкину на дверь.
До последней минуты неизвестность будущего поддерживала еще Александра, как утопающего над бездонной топью. Теперь все кончилось бесповоротно: неумолимая судьба придавила его тяжким гнетом и потянула в темную глубь. С невыносимой тяжестью этою на сердце, с отуманенною головой, сам не зная как, он выбрался в приемную и машинально поплелся к своему месту. Дельвигов уже не было; зато перед ним, как лист перед травой, вырос Гурьев и любезно осведомился:
— Можно поздравить?
— Да! И вам того же желаю! — буркнул в лицо ему Пушкин и круто повернулся к Василию Львовичу, также в это время подошедшему к нему: — Бога ради, уйдемте, дядя…
— Куда же ты? Скажи мне, по крайней мере…
— Потом все расскажу… Уйдемте только…
— А с будущими товарищами-то ты так и не простишься?
— Не будут они мне товарищами…