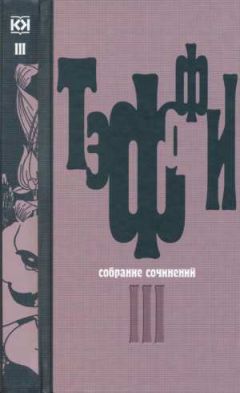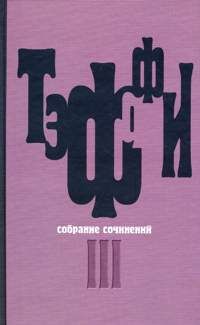А мадам Ложкина нашла, что это было бы несправедливо, если бы так перемешивали людей различных кругов общества. Конечно, в смысле манер, если какой-нибудь праведник ел рыбу ножом, – это неважно, потому что на том свете ни рыбы, ни ножа нет, но сама душа у человека благовоспитанного должна очень шокироваться и страдать от близости праведника дурного тона.
А Олечка стала протестовать в том смысле, что это только в светской жизни важна бонтонность, а, например, у нас при большевиках случалось, что и бывшие фрейлины водили компанию с бывшими прачками и прямо жили душа в душу.
Тут опять хозяйка ввязалась в разговор.
– Так ведь это, – говорит, – при большевиках. Так сказать, в аду, а мы говорим про райское народонаселение и социальный строй блаженства. А какое же блаженство при наличности таких дефектов?
Потом разговор потек по своему руслу дальше, в дебри, и сам Ложкин высказал удивительнейшую мысль.
– Не замечали ли вы, – сказал он, – как часто то, что считалось предрассудком и заблуждением темного разума, неожиданно освещается наукой и признается ею за правильное и достоверное? Вот, например, лечили деревенские старухи рожу тем, что очерчивали воспаленное место мелом. Люди интеллигентные, конечно, издевались над бабьей ерундой, а затем бактериолог какой-то взял да и разъяснил, что бабы-то очень правильно дело-то разумели, что бациллы рожи не могут переходить через меловое препятствие, так как мел, по природе своей, им неблагоприятен. И многое, что казалось пустяком и над чем смеялись, оказалось правильным. Так вот иногда приходит мне в голову, – а ну как земля-то вовсе не шар, а блин, и держится она на трех китах, а внизу ад, и черти на сковородках грешников жарят? Подумайте только, какой конфуз для образованного человека, который всю жизнь губы кривил по всем правилам скепсиса и анализа, и умер, «погружаясь в великое Ничто», и вдруг – пожалуйте-с сковородку лизать, и самый настоящий черт зеленого цвета, изрыгая хулу и серный дух, будет ему подкладывать угольков под пятки. Вот уж это действительно был бы настоящий ад! А срам-то какой для человеческой гордыни! Вот тебе и скепсис, вот тебе и наука! И все эти Галилеи и Коперники – все по сковородкам рассажены и жарятся за распространение ложных слухов.
Тут уж и я ввязалась в разговор.
– Это, – говорю, действительно, очень страшно – то, что вы рассказываете. Но есть во всем этом нечто утешительное, что делает этот наивный ад местом не столь уж отвратительным. А именно то, что в аду этом предполагается для каждого грешника особая сковорода. Я одобряю это не в смысле комфорта или гигиены, а имея в виду, что при этом для них недопустимо взаимное общение. Хотя с точки зрения грешника это, может быть, большой дефект и пущая мука.
– Темно говорите, не понимаю, – прервал меня хозяин.
– А я это в том смысле, что лишены они возможности друг другу гадости делать. Тяжело ведь это, а?
Все опустили головы и замолчали.
Страшны, страшны муки адовы!
Сладка земная жизнь!
Заседаем в комитете по устройству благотворительного вечера.
– Кого же пригласить?
– Эх, будь здесь Анна Павлова, да согласись она протанцевать, вот это – действительно был бы номер!
– Н-да. А кого же из певцов? Господа, не знает ли кто-нибудь из вас кого-нибудь, кто бы согласился?
– Эх, будь здесь Шаляпин, да согласись он выступить, вот это действ…
– Позвольте, господа, ближе к делу!
– Для рекламы нужны громкие имена, нужны знаменитости, которые могут привлечь публику.
– Я знаю одну барышню, которая, кажется, недурно поет. Может быть, если бы она согласилась…
– Ладно. Давайте барышню. А как ее фамилия?
– К сожалению, не знаю. Что-то вроде Федько.
– Не Федько, а Бумазеева. Так она рисует, а не поет.
– Не все ли равно, господа, о чем спорить! Нужно скорее намечать исполнителей, а то мы никогда не кончим. Кто, господа, берет на себя пригласить г-жу Бумазееву? Иван Петрович, вам, кажется, принадлежит мысль?
– Я, собственно говоря… конечно, мог бы, но я не знаю ее адреса.
– В таком случае, может быть, вы возьмете на себя узнать ее адрес к следующему заседанию? Поймите же, нам необходимо женское сопрано.
– Я, конечно, мог бы, только она ведь не поет. Она рисует…
– Ну, урезоньте ее как-нибудь, объясните, что это общественное дело, что долг каждого человека…
– Разрешите сказать два слова. Что, если пригласить кого-нибудь из французских литераторов? Например, Пьера Лоти. Он, говорят, любит русских.
– Отлично, я стою за Лоти!
– Да что вы, господа, ведь он же давно умер.
– Умер? Ну тогда, действительно, не ладно.
– Ничего с французами не выйдет, верьте моему опыту. Все хорошие французы по вечерам заняты.
– Можно кого-нибудь и плохого, не все поймут, или какого-нибудь шансонье…
– Простите, господа, но мы не должны забывать, что вечер должен носить идейный характер, что он устраивается в пользу нуждающихся.
– Ну, знаете ли, благотворительные вечера никогда в пользу богатых и не устраиваются, и это не мешает им быть веселыми.
– Н-не знаю-с. Лично для себя считаю неудобным веселиться, когда люди страдают.
– Тогда надо было устраивать не бал с концертом, а уж не знаю что. Сечь их всех, что ли.
– Господа, ближе к делу. У нас мало времени. Раз решено устроить бал, так будем устраивать бал. А что-нибудь печальное, или вообще неприятное, мы можем устроить впоследствии.
– Э, господа, программа – это, как говорится, дело девятое, главное – продавать билеты.
– Но мы же не можем начать продавать билеты, пока не выяснена программа.
– В Костроме был один гимназист, который чудесно свистел.
– Чего-с?
– Нет, это я так.
– По-моему, раз нужно начинать с программы, так и начнем с программы. Ну вот, дайте карандаш. Номер первый – музыка или пение? Кто бы мог сыграть?
– Кусевицкий мог бы. Он в Америке.
– Гм, Кусевицкий. Ну, значит, так и запишем, – номер первый – Кусевицкий в Аме… то есть, позвольте, как же?..
– Можно составить хор любителей. Сделать тридцать-сорок хороших репетиций…
– Да где же вы любителей наберете?
– Дать публикацию в газетах, набрать голоса, развить, пусть пройдут серьезную школу. Не забудьте, что Патти была уличной певицей.
– Идея, может быть, и хороша, да времени мало. Ведь на это, пожалуй, лет десять…
– Ну, что вы! Русский народ так талантлив!
– А репетиции? Ведь у нас времени всего три недели.
– Все-то у вас репетиции! Вдохновение нужно, а не репетиции. У нас в России маляры пели без всяких репетиций, а, бывало, заслушаешься.
– Ну, хорошо. Значит, вы берете на себя организовать к нашему балу хор любителей?
– Почему же непременно я? Это так просто идея, если хотите, набросок, мазок.
– А если выпустить кого-нибудь из писателей? Все-таки соль земли русской.
– Ну, знаем мы эту соль. Сядет и задудит самому себе в ноздри. Тощиша. Только и развлечение для публики, что друг на друга шипеть, чтобы не разговаривали.
– Ах, вы так рассуждаете? А по-моему – именно писатели. Напустить на них писателя, чтобы он бичевал с эстрады своим пылающим словом. Вы, мол, пришли сюда для забавы? Хохотать пришли? Веселиться? А подумали ли вы о тех, кому не до веселья? Да хорошенько их, да хорошенько, чтобы завопили не своим голосом.
– Послушайте, да за что же? Люди пришли, деньги заплатили, сами вы их заманивали, и то, мол, и се, и концерт, и танцы, и джаз-банд, и буфет. За что же обижать-то?
– Не обижать, а перевоспитывать. После сами поблагодарят.
– Опять у нас, господа, ни с места. Ну, хорошо, если не литератора, тогда кого же? С чего начинать?
– Да ведь решили с музыки.
– Тут я не спорю. Музыка хорошо. Только что-нибудь мрачное. Траурный марш Вагнера из «Гибели богов»… А затем уже весь вечер выдержать. «Сейте разумное, доброе, вечное, сейте, спасибо вам скажет сердечное русский народ». Вот как…
– Да уж сеяли. Да уж сказал. Чего вам еще?
– Господа, а не знает ли кто-нибудь хорошего конферансье. Надо же пригласить конферансье.
– Можно попросить Никиту Балиева, он сейчас в Лондоне.
– Так у него же там спектакли!
– Ну что же, – может на один-то вечер…
– Покойный Горбунов чудесный был рассказчик.
– Вы думаете, согласился бы?
– А насчет помещения сговорились?
– По-моему, взять Гранд-Опера, да продать все билеты по пятьсот франков, вот это было бы дело.
– Илья Сергеевич, а ведь ваша жена, кажется, поет. Вот, может быть, согласилась бы выступить?
– Господь с вами. Никогда в жизни не пела. Ни малейшего голоса.
– Ну для такой святой цели, может быть, согласилась бы? Что-нибудь небольшое, а?
– Да я же вам говорю, – ни слуха, ни голоса.