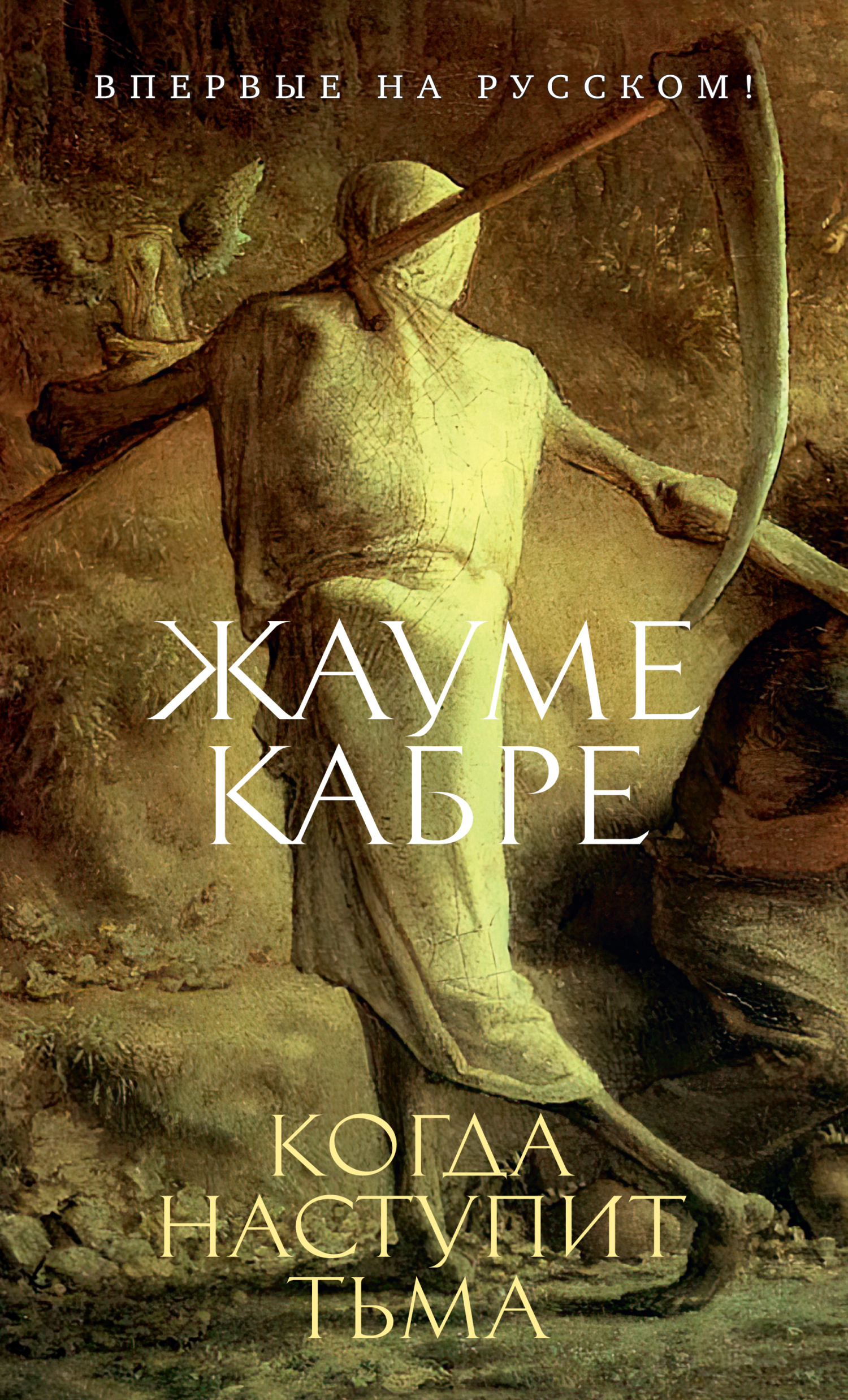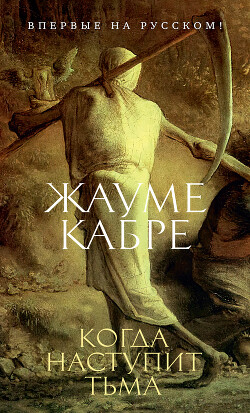дирижера, хотя и знал, что потерял тот блеск в глазах, от которого движения становятся красивее и точнее и с одного взгляда понимаешь всю партитуру. Уроки, на которые он все еще ходил, не приносили ему радости, за исключением предметов по музыковедению, позволявших рыться в старинных бумагах, на века опережавших эру Маргит: лучший способ бежать от действительности без того, чтобы возвращаться в Будапешт с пустыми руками и обманутыми надеждами. Чтобы заработать себе на жизнь, он устроился работать репетиционным концертмейстером в небольшой оперный театр в городе Штоккерау, познакомился с Анной, которая была там администратором, женился на ней и за всю свою жизнь ни на мгновение не переставал думать о Маргит.
– Ты постоянно грустишь.
– Это оттого, что передо мной течет Дунай. Он навевает на меня печаль.
– Давай съездим в Будапешт. Твоя мама будет рада.
– Нет. Мы туда уже ездили на Рождество. Я не хочу, чтобы она привыкла к мысли, что мы должны навещать ее очень часто.
– Тогда давай переедем на другую квартиру.
– Нет. Мне хочется видеть Дунай с балкона.
– О чем ты думаешь?
Бедная Анна. Сколько она ни спрашивала, у него никогда не хватало духу сказать ей, что думает он о невероятной, но не выдуманной женщине. Он предпочел молчать и хранить печаль при себе, сколько сможет. И Анна волновалась из-за того, что мужа гложет тоска, не имеющая естественного объяснения. Шли годы, и Золтан уже совмещал концертмейстерскую работу на репетициях с помощью профессору Бауэру из Musikwissenschaftzentrum в работе с архивными документами и зарабатывал на этом какие-то деньги, не зная, на что их потратить.
Несмотря на то что чах на глазах он, неожиданно умерла Анна. Она ничего не боялась, никогда не хворала, неустанно работала над тем, чтобы все было в порядке. Но как-то раз у нее разболелась голова, у меня так болит голова, Золтан, что я почти ничего не вижу, и в больнице их долго успокаивали, не глядя им в глаза, и, не делая из этого драмы, положили ее на обследование. Так она и не выздоровела, бедная Анна, ведь я плакал о ней только тогда, когда она умерла. Ее агония длилась недолго, как будто ей не хотелось беспокоить тех, кто остается жить и горевать, и она ушла незаметно, та женщина, которая его любила и бережно относилась к его таинственной печали, не желая искать ей сложного и, наверное, невозможного объяснения.
Анна умерла, и Золтан уже больше ни разу не ходил к ней на могилу. Он все так же смотрел из окна на Дунай, с трубкой в руках и с памятью о Маргит, притупленной острым чувством вины, потому что за пятнадцать лет супружеской жизни он ни разу не рассмеялся, даже ни разу не попытался рассмеяться, и, может быть, именно из-за отсутствия смеха что-то и закупорилось в мозгу у Анны, которая столько лет делала вид, что жизнь хороша, что ничего не происходит, что скоро Золтан поправится от своей непонятной хвори, и все пойдет по-другому, и мы будем гулять по парку Пратер и по району Хайлигенштадт, смотреть на красивые дома и мечтать, что они наши, и есть шоколадное мороженое на улице Грабен, как все нормальные люди.
После смерти Анны, которая совпала с уходом профессора Бауэра на пенсию, Золтан Вешшеленьи полностью посвятил себя науке, чтобы окончательно выбросить из головы Маргит, забыть даже это никому не нужное по прошествии многих лет свидание, из-за которого все не затягивались старые раны. К тому же ему до чертиков надоело аккомпанировать на фортепиано второсортным певцам, замученным фарингитом, которые на него даже не смотрели и не благодарили его, потому что репетиционный концертмейстер – это часть фортепиано, которое выкатывают для репетиций, он должен быть всегда готов, ни о чем своем не думать, тайных надежд не иметь и в туалет не вовремя не бегать. Ему надоело по десять тысяч раз играть одну и ту же пьесу. Надоел грязно-зеленый цвет стен репетиционного зала, где он гнул спину по шесть часов в день, за исключением субботы и воскресенья, когда не было спектаклей. Ему надоело относиться к музыке как к занятию такому же жалкому, как и он сам, и он ушел из этого маленького театра не оглядываясь, точно так же, как много лет назад ушла от него Маргит. По прошествии нескольких лет, посвященных одной только науке, ему удалось наложить на свои воспоминания очень тонкую обезболивающую пленку, и дважды ему улыбнулась удача, благодаря которой он пользовался теперь авторитетом среди музыковедов. Эти два открытия он сделал, не выходя из венского Musikwissenschaftzentrum. Как-то раз дождливым вечером, перебирая пачку муниципальных документов начала двадцатого века, он обнаружил партитуру, немного поблекшую, но вполне удобочитаемую, ранее неизвестного романса Шуберта на слова автора под названием «Der Mauersegler» [139], датированного 1820 годом. К нотам прилагалась записка некоего Матиаса Гольбейна, трактирщика из Гринцинга [140], удостоверяющая, что он получил эту партитуру в качестве оплаты разгульной попойки, устроенной ангельским Шубертом в его заведении в обществе некой темпераментной барышни. И что произведение было написано на его глазах меньше чем за час, наутро после кутежа, когда музыкант понял, что платить ему нечем. Двадцать лет спустя герр Матиас передавал оригинал в собственность венскому муниципалитету в обмен на вознаграждение, сумма которого указана не была. Непутевые клерки ратуши засунули партитуру в кипу бумаг и забыли о ее существовании, несомненно, именно для того, чтобы через полтора века, дождливым вечером, она поспособствовала укреплению авторитета мрачного венгерского музыковеда. Другая находка, более недавняя, была событием мирового масштаба, так как заставила изменить многие partis pris [141] в музыкальной историографии. Среди бумаг, которые престарелый органист Каспар Фишер завещал городу Вене, перед тем как умереть в 1828 году, обнаружилась написанная его почерком партитура дьявольского «Контрапункта» его собственного сочинения на неслыханную тему си-бемоль, ля, ре-бемоль, си, до. Работа над семью вариациями была классической, целостной, мудрой, полной мысли и лирической силы, в ней чувствовалась уверенность, присущая великим мастерам, и она обращалась к слушателям на языке пантональной музыки за восемьдесят лет до того, как это впервые пришло в голову Шёнбергу. Этот шедевр ставил Каспара Фишера, бывшего родом из Лейпцига, но в течение сорока лет смиренно прослужившего органистом в венской Францисканеркирхе [142], за которым до тех пор не числилось ни одной собственной композиции, в один ряд с провидцами, пророками и гениями, которыми время от времени блистает любой вид искусства, и воскрешал его из забвения, которое в данном случае было бы вопиюще несправедливым. А Золтану Вешшеленьи давал профессиональное признание, которого он, впрочем, не