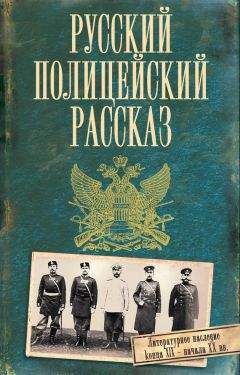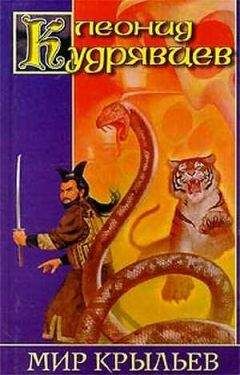В первые дни моего пребывания в Стручках Сагачок старался во всем быть мне полезным и суетился немилосердно. Но в то же время я видел, как он не раз не то испытующе, не то иронически посматривал на меня своими плутоватыми карими глазами, которые, казалось, спрашивали: «А ну-ка, покажись, что ты за птица?..» Но, по-видимому, изучение моей личности приносило ему разочарование, так как лицо его с каждым днем вытягивалось и становилось серьезнее. Особенно он остался недоволен, когда узнал, что я не пью ни водки, ни вина, ни даже пива. При этом, словно невзначай, он бросил замечание, что все мои предместники пили, и хорошо пили, но все они были прекрасным начальством. Я оборвал его и высказал на этот счет мой взгляд и требования, что заставило Сагачка озабоченно почесать затылок. Вообще, было видно, что мои предместники избаловали Сагачка, и он в своих отношениях ко мне не мог уловить чувства меры: то низкопоклонничал до приторности, то чуть ли не фамильярничал.
Не успел я порядком оглядеться по приезде в Стручкы, как мне пришлось столкнуться с самостоятельной полицейской распорядительностью Сагачка.
Вышел я глубоким вечером во двор своей квартиры подышать свежим воздухом. Село уже спало, и только кое-где в окнах хат мелькали огоньки, да слышно было, как по пыльной дороге глухо отдавался мерный шаг лошадей, как они фыркали и звенели повешенными на шеи железными путами, как гнавшие лошадей в ночное парни мурлыкали песенки или играли на «сопилках». В это время из одной боковой улицы вышла кучка парней, тихо и стройно напевающих какую-то песню, и направилась по дороге возле становой квартиры. Вдруг послышался грозный оклик Сагачка:
– Стой! Вы что нарушаете тишину и спокойствие, бисовы дети, а?
В ответ на это со стороны парней послышался свист, кто-то замяукал кошкой, кто-то застонал совой…
Такой реприманд, по-видимому, взбесил Сагачка, который заорал во всю силу глотки:
– Скандал!.. Революция!.. Мизантропия!.. Лови!..
В тишине наступающей ночи послышался топот убегавших парней, а вслед им несся крик Сагачка:
– Лови!.. Держи!.. Скандал!.. Революция!.. Мизантропия!.. Лови!..
Через минуту из отдаленной улицы долетала насмешливая песня парней:
Сотский – добрый человик,
Слава его на весь свет…
Гей, гей, гей…
Як почепыт свою бляху,
Аж сам чорт втикае с страху…
Гей, гей, гей!..
Когда Сагачок входил во двор, я остановил его и спросил, почему он вздумал запрещать парням петь песни?
– Как почему? Да они нарушают тишину и спокойствие и притом – перед самой становой квартирой.
Я не видел лица Сагачка, но, судя по тону его ответа, он был очень удивлен, что я предлагаю ему такие пустые вопросы.
Я объяснил Сагачку границы между кажущимся и действительным нарушением «тишины и спокойствия» и спросил его, почему он кричит скандал – революция – мизантропия, и что эти слова значат?
Сагачок ответил, что «скандал» и «революция» всегда кричал покойный пристав Каровский, когда нужно было водворить в толпе порядок, а слову «мизантропия» научили его поповские паничи. Слова все хорошие и действуют на людей, особенно подвыпивших, всегда успокоительно, а что они значат – Господь ведает.
Опять пришлось объяснять Сагачку значение слов, что он выслушал со вниманием, но, как потом оказалось, продолжал при каждом удобном и неудобном случае выкрикивать их. И – нужно сказать правду – слова эти всегда оказывали некоторое устрашающее влияние на толпу.
Спустя два-три дня Сагачок, так отважно водворивший «тишину и спокойствие» в кучке парней, позорно струсил, когда явилась действительная необходимость утишить расходившуюся толпу.
Стручанский батюшка освятил новую «фигуру», воздвигнутую на средства сестричек, которые по этому поводу устроили общественный обед. За обедом всеми решено было завершить достойным образом торжество в корчме. Корчма стояла на площади против становой квартиры, и вечером почти все стручане угощались частью в корчме, в большинстве же – на площади. Царил неумолчный говор, слышались песни, раздавались крики; шум и гам все увеличивались по мере опьянения толпы. Когда после десяти часов я вышел во двор, толпа шумела и кричала дико, бессмысленно, отвратительно. Вдруг в толпе раздался ружейный выстрел, который был встречен громким криком восторга. Понятно, представлялась необходимость обуздать не в меру расходившуюся толпу и закрыть корчму, окна которой ярко горели огнями, вопреки постановлению о прекращении в эту пору торговли. Я решил поручить это Сагачку, который сидел на кухне, крайне недовольный тем, что я сделал ему выговор, когда он вернулся подвыпивши с общественного обеда, и велел весь день не отлучаться из становой квартиры.
Сагачок выслушал мое приказание, блеснул иронически своими плутовскими глазами и категорически заявил, что жизнь ему не надоела еще, чтобы он шел в пьяную толпу.
Я повторил приказание, но он ответил, что, хотя бы я расквасил ему нос, как печеную грушу, и посадил на месяц в холодную, – он все равно не пойдет на свою погибель.
Что мне оставалось делать?.. Я хладнокровно сказал ему:
– Ну оставайся, если ты такой трус: я сам пойду.
– Вы сами пойдете? – с беспокойством спросил меня Сагачок. – Господь с вами, ваше в-дие! Вы не знаете наших стручан, пьяные – хуже всякого зверя. Сколько переменилось разного начальства, а бывало, никто за ворота не выйдет, когда столько пьяных. Уж какой здоровый и храбрый был пристав Каламацкий, а пошел раз усмирять пьяных и закаялся: насилу мы с десятскими вызволили его от рассвирепевшей толпы. Целых две недели лежал после этого, бедняга.
Я вышел из кухни и пошел к корчме. Не успел я открыть калитку со двора на площадь, как меня кто-то схватил за рукав мундира. Я оглянулся. Передо мной стоял Сагачок, и в серой мгле ночи видно было, как он волновался.
– Пане, прошу, молю вас, не идите туда, – прерывающимся голосом заговорил он. – Вы не знаете нашего народа: убьют вас, и дети сиротами останутся.
– Не беспокойся, иди спать на сеновал, – и я захлопнул калитку.
Но не успел я сделать двух шагов, как Сагачок был уже рядом со мною и, чуть не плача, говорил:
– Ну, если вы такой упрямый, то – хорошо: я тоже иду с вами. Пускай меня убьют, а я буду защищать вас до последних сил.
Было что-то трогательное и смешное в этом, но я знал, что Сагачок при своих понятиях о водворении порядка был бы весьма нежелательным для меня защитником в пьяной толпе, а потому строго повторил ему приказание идти спать, пригрозив, что, если он ослушается, я сейчас велю десятским посадить его в холодную.
Зная психику пьяной толпы, я спокойно подошел к первым рядам, поздоровался и направился к корчме, обходя не замечавших меня стручан. Шум постепенно утих, но толпа с заметной враждебностью начала окружать меня стеною. Я подошел к корчме и крикнул продавца. В то время евреям уже нельзя было содержать шинков и продавцом водки от владельца завода состоял бойкий рязанец Прохор Тимофеевич. Он быстро подбежал ко мне и, встряхнув волосами, спросил:
– Что прикажете, ваше в-дие?!..
Я сказал ему, что пора бы прекратить торговлю, так как может случайно наехать контролер, и тогда будут крупные неприятности и ему, и владельцу завода.
Прохор Тимофеевич стал уверять меня, что своевременно закрыл торговлю, а если корчма освещена, то просто потому, что в Стручках сегодня высокоторжественный день, так и выразился, плут, – высокоторжественный день.
Я сделал вид, что поверил ему, и обратился к ближайшему стручанину с вопросом, какое у них сегодня торжество? Не ожидавший вопроса стручанин так растерялся, что даже стал пятиться от меня, пугливо озираясь. На выручку ему выступила какая-то бойкая вертлявая бабенка, которая принялась мне рассказывать, как они, сестрички, на свои средства соорудили «фигуру» и освятили ее. Я похвалил их богоугодное дело и высказал восторг по поводу художественного исполнения «фигуры». Это сразу расположило в мою пользу всех сестричек, которые тесным кольцом окружили меня. Я стал расспрашивать, кто делал «фигуру», сколько стоила работа и т. п., а сестрички наперерыв друг перед другом отвечали мне.
Завязался разговор. Должно быть, я успел завоевать большие симпатии сестричек, так как ближайшая моя соседка вдруг вытащила из-за пазухи бутылку водки и рюмку и предложила мне выпить «по маленькой». Когда я сказал, что не пью водки, сестрички наперерыв друг перед дружкой стали мне предлагать то запеканки, то вина, то пива, то, наконец, квасу. Я выпил стакан квасу, похвалил его качество и попросил другой стакан.
Тем временем Прохор Тимофеевич успел уже потушить огонь в корчме, что, видимо, не понравилось некоторым из стручан, так как они подошли и стали стучать в дверь. Прохор Тимофеевич, желая, вероятно, демонстрировать свою исполнительность в отношении обязательных постановлений, налетел, как бык, на назойливых стручан, которые благородно ретировались в толпу. Я спросил, кто и зачем стрелял из ружья? Оказалось, что стрелял Никитка Лысый по поводу торжества, а просили его об этом все сестрички. Затем я заговорил о полевых работах и заметил, что пора бы уже ложиться спать – отдохнуть перед завтрашним трудом. Все согласились со мною, и я, пользуясь этим, пожелал всем доброй ночи и направился домой. Толпа чинно стала расходиться.