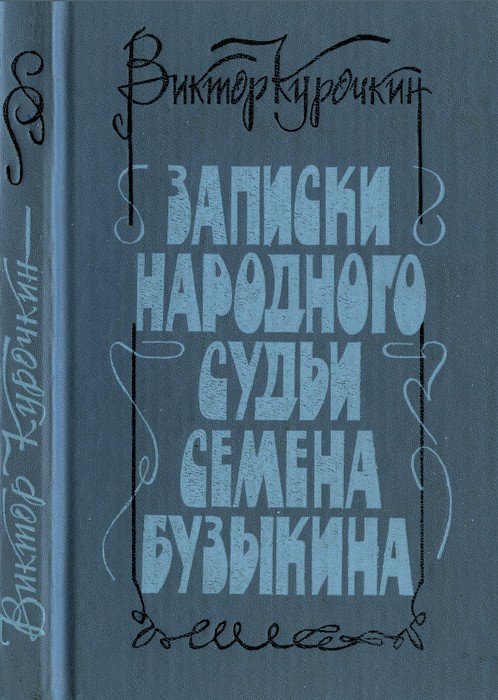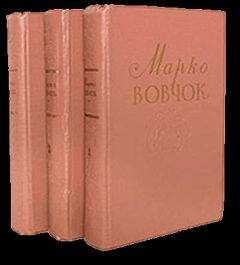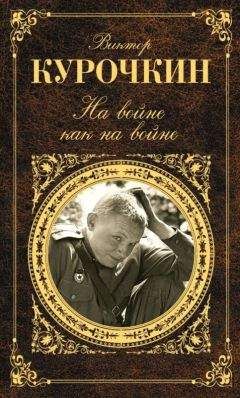говорить.
Василий Ильич поднялся, но Кожин удержал его за полу пиджака.
— Да сиди ты… Успеешь…
Василий Ильич нехотя сел, сорвал травинку, пожевал ее, сплюнул с языка горечь и сказал что-то неопределенное:
— Да, видишь, оно как, а…
— Ты о чем? — Матвей похлопал по коленке фуражкой и, приставив к глазам руку, посмотрел на дорогу. — Конь, что ль, это? Куда его несет?
По дороге, загребая ногами пыль, шел Иван Копылов. Глядя на него, Василий Ильич думал, как метко окрестили человека Конем. Ступал Копылов редко и грузно, на длинной худой шее его, как у лошади, моталась голова. Заметив Матвея с Овсовым, Конь свернул и, сильно сгорбившись, зашагал к ним. Поздоровался молча, крепко, как клещами, сжимая пальцы, затем сел на землю по-турецки и стал закуривать.
— О чем разговор-то?
— Да так… О недостатках наших, — усмехнулся Матвей.
— А-а… Ну и что?
— Матвей Савельич говорит, самый бедный колхоз наш в районе, — сказал Василий Ильич.
— Ничего, вылезем. От нас зависит…
— Трудновато будет, — перебил Матвей Коня. — За что ни возьмись — все плохо. Вот хоть бы скот…
— Со скотом, и верно, жидковато, — сказал Конь. — Пока не приведем в порядок сенокосы и выгоны, не поднять животноводство. Негде скотину пасти. Гоняем изо дня в день по одному месту.
— И сена из года в год не выкашиваем. А раньше оно у нас не поедалось. — Матвей встал, надел фуражку. — Ты, Василий, зря так надрываешься. Лучше сходи в правление, попроси лошадь, — посоветовал он Овсову.
— Успею еще. Пока в охотку, ничего, — улыбнулся Василий Ильич.
— Ну смотри. Усадьбу-то пора пахать.
— Завтра начать думаю, — Василий Ильич замялся, — только вот не знаю, как с семенами быть.
— Сходи к председателю. Даст. Должен дать.
— Думаю, у вас, Матвей Савельич, подзанять картофеля на посадку. Не откажешь?
— Так-так, — и Матвей усмехнулся, — в колхозе не хочешь.
— Да как-то неудобно. Не успел приехать, и сразу давай.
— Ну, как знаешь. Дам семян. А в правление ты сходи, Василий. Председатель вспоминал тебя, — предупредил, уходя, Матвей.
Конь стоял в стороне и, ухмыляясь, поглядывал на Овсова. А когда Кожин ушел, сказал глухим басом:
— А я, как приехал, сразу председателю на горло: дом давай, корову тоже давай… И дал. Вот так-то, Ильич. Деликаты нам не пристало разводить.
— У тебя другое… У тебя семья, детишки. — И, как бы извиняясь, Овсов добавил: — Да что просить — колхоз-то небогат.
Овсов приподнял связку кольев.
— Погодь, Ильич, — остановил его Конь, — просьба к тебе. Печь у меня в водогрейке дымит, да и жар плохо держит. Зашел бы, посмотрел… Ты, говорят, понимаешь в этом деле.
— Чудаки! — И Овсов засмеялся, но, взглянув на хмурое лицо Коня, смутился. — Я на кирпичном заводе работал давно…
— Значит, не можешь?
Овсов еще больше смутился.
— Я не печник… Клал когда-то печки, — но разучился.
— A-а! Разучился…
«Дурак», — мысленно обругал себя Василий Ильич и рывком вскинул на спину связку кольев.
Он старался идти медленно, твердо ступать, но ноги не слушались. Они против воли подгибались, семенили. И Василий Ильич не мог понять, что сильнее давит на них и подгоняет: тяжелая связка кольев за спиной или печально-угрюмые глаза. Коня.
Дотемна Овсов ставил ограду и, отказавшись от ужина, сразу лег спать.
— Надорвешься сдуру-то, — заметила Марья Антоновна.
— Надо, Марья, надо, — пробормотал муж, засыпая.
На его хлопоты Марья Антоновна смотрела равнодушно:
— Потешится-потешится и бросит.
После того как Матвей, усмехаясь, сказал: «Землянику, Марья, у нас ребятишки в лесу собирают, а в огороде ее разводить — одно баловство», — Овсова решила, что делать в Лукашах ей нечего. Теперь она считала себя только дачницей. День за днем она сидела под окном или на крыльце и все больше спала.
Василий Ильич уставал. Но в этой усталости было что-то новое, отличное от прежней жизни… Он словно помолодел.
Однако Василия Ильича все еще не покидало и чувство затаенного страха. Он не решался порвать с городом раз и навсегда.
«Пусть будет само собой, постепенно, — рассуждал Василий Ильич, медля со вступлением в колхоз. — Успею еще подать заявление, это никогда не поздно».
Василий Ильич задумал обзавестись хозяйством, но сделать это без чьей-либо помощи, своими силами, чтобы не быть никому обязанным.
Лошадь — вспахать огород — он решил взять у цыгана Мартына… Мартын жил «на зимних квартирах» — в бесхозной избе в два окна. Стояла изба на отшибе, на глинистом бугре, и продувалась насквозь ветрами. Нижние венцы у нее подгнили, и если бы стены не поддерживались со всех сторон подпорками, изба давно бы рассыпалась.
Мартын готовился в поход. Из рябиновых хлыстов цыган гнул обручи и ставил их на телегу. Около дома цыганка готовила обед. Столом ей служила входная дверь, которая не закрывалась, а ставилась на ночь. Два цыганенка, оборванные, нечесаные, чумазые, играли в чехарду. Они первыми заметили Василия Ильича и, подтянув штаны, подбежали к Овсову.
— Дядь, дай денежку, на животе спляшем! — загалдели цыганята и, не получив согласия, заголосили:
Сковорода, сковорода, сковорода горячая,
Полюбила лейтенанта — дело подходячее!..
Потом шлепнулись на землю и, изобразив таким образом танец на животе, вскочили и протянули свои грязные ладошки.
Василий Ильич сунул им двугривенный.
Подошел Мартын — низкорослый, цыган с маленькой лохматой головой. Трудно было рассмотреть его лицо, так густо оно обросло. Черные жесткие волосы лезли из шеи, ушей, ноздрей и даже из глаз.
— Я к тебе, Мартын, по делу, — проговорил Овсов, пожимая костлявую руку цыгана, которую тот насильно сунул Василию Ильичу.
Мартын пристально с ног до головы осмотрел Овсова и сказал:
— Коня не дам: кормить коня надо. Скоро в дорогу айда.
— Ну, раз не дашь, то о чем говорить, — обиделся Овсов и поворотился идти. Мартын схватил его за рукав:
— Стой! Я раздумал. Дам коня. На один день дам.
— Мне больше не надо.
— Эх, голова! Так бы и говорил, на один день. А то — «дай коня».
— Сколько за него? — прямо спросил Овсов.
— Не жалко. Любую половину возьму.
— Какую половину? — удивился Василий Ильич.
— Пятьдесят рублей.
— Да ты спятил, Мартын. С других двадцать пять, а с меня пятьдесят.
— Так я ж тебе дам другого коня; у меня их два, пойдем покажу. — И Мартын потащил Овсова в кусты, росшие за домом. Там паслись две лошади: гладкая кобыла рыжей масти и гнедой мерин, до того тощий, что, казалось, стоит ему надуться, и ребра прорвут кожу. Мерин поднял голову и попытался заржать, но горло его издало только хриплое бульканье.
— Выбирай, — и цыган