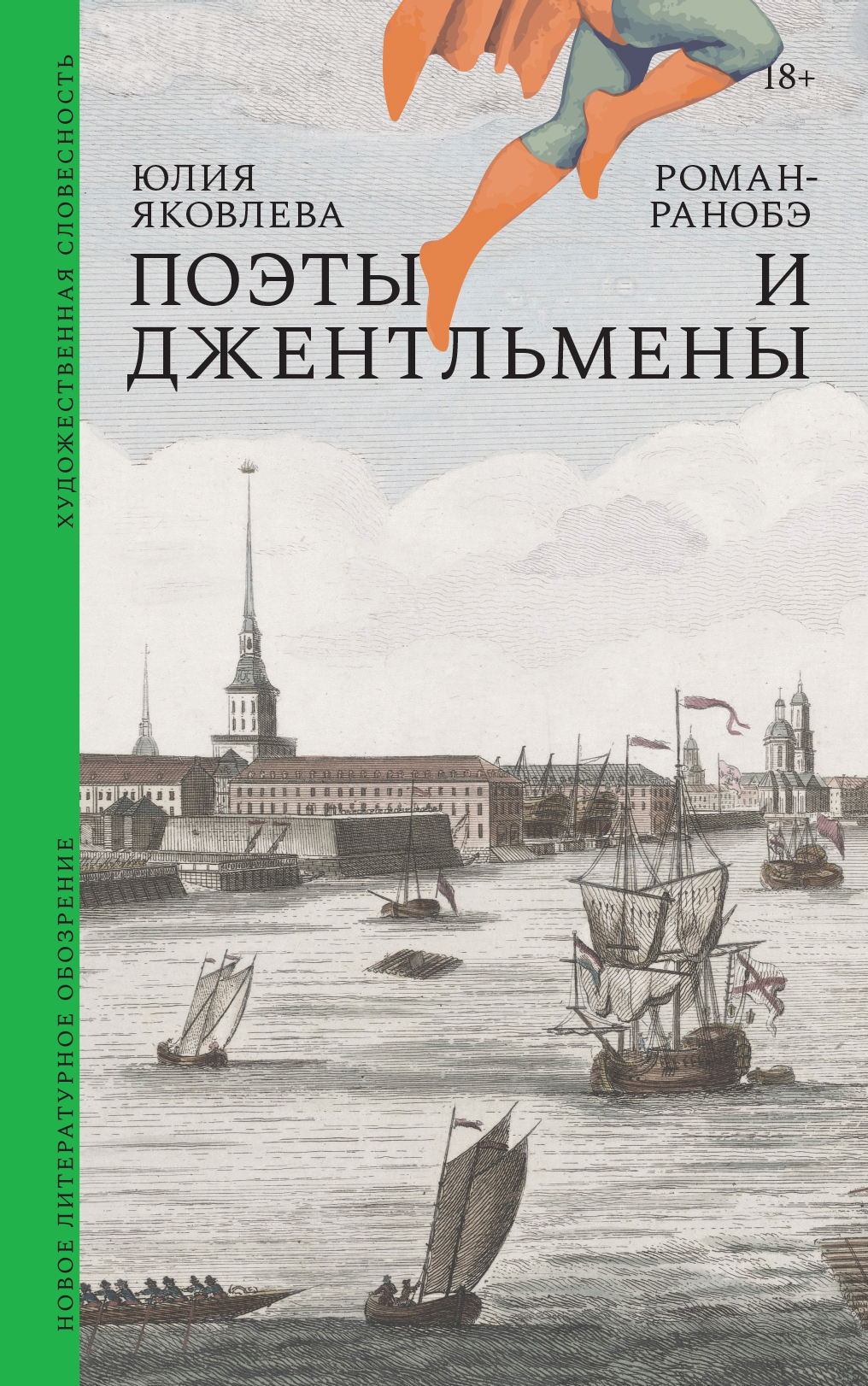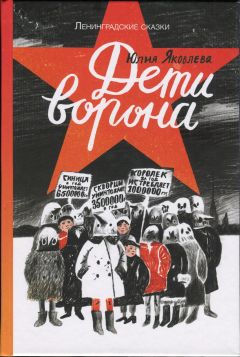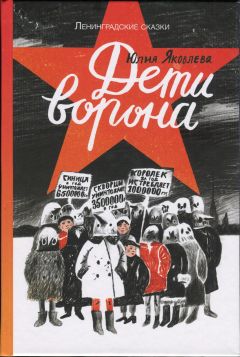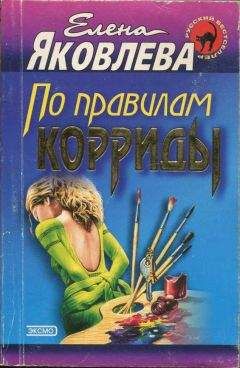к столу. Двинулся к руке, попутно пнув стол, так что тот заехал углом министру в пах.
– Вы знакомы? – сумел выдавить князь. Только приличия не позволили ему схватиться обеими руками там, где хотелось.
Актриса обернулась с улыбкой:
– Дорогой Алекс, вы умилились бы точно так же, как я, когда бы увидели эту прелестную девушку. Мой дорогой, вы ведь простите мне мою сентиментальность?
Министр насупился. Госпожа Гюлен и виду не подала, что это ее обеспокоило. Она взяла дорогого Алекса под локоть – так, чтобы грудь ее прижалась к его плечу, а вырез пеньюара открыл взору наилучший вид на ландшафт.
– Ах, сердитесь же на меня! Я так слаба. Ничего не могу с собой поделать при виде юной влюбленной пары. Когда мое собственное сердце само так полно любви…
– О, дорогая! – Министр похлопал актрису по белой руке своей, усыпанной старческой «гречкой». – Когда я на вас сердился? Вы совершенство.
Он поцеловал ей ручку. И устремил бессмысленный взор на чертежи:
– Я вас слушаю, молодой человек. Так что кальмар?
– Кальмар… кальмар…
Мичман поспешно оторвал взгляд от изгибов, просвечивающих сквозь шелк. Уткнул в бумагу:
– Кальмар способен развить беспримерную скорость, набирая и выплевывая воду внутренней полостью. Он движется толчками. Водой толкается от воды. По тому же принципу я устроил двигатель в моем аппарате. Который я назвал…
– «Кальмар»? – подсказала с лукавой улыбкой госпожа Гюлен.
Кончики ушей у мичмана зарделись. Просторное сердце заполняла любовь. Он отрапортовал:
– Я назвал мою лодку «Ольга».
– Как мило, – несколько холодно похвалила госпожа Гюлен. Разумеется, не от ревности: жалованье мичмана не могло ее интересовать. Ее быстрые глазки так и шарили по чертежу. А маленькая голова старалась произвести объемистый расчет простого вопроса: интересно ли это французской разведке?
Мичман тоже оперся на стол – отчего тот поехал со слоновьим звуком четырьмя ногами по паркету. Мичман отпрянул:
– Простите.
Госпожа Гюлен покачивала головой, как фарфоровая кошечка. Что выражало у нее глубокое сомнение. Князю Меншикову уже случалось наблюдать этот ее жест в ювелирном магазине Болина, тогда он был адресован сочетанию бриллиантов с опалами.
Сомнения ее были и сейчас не напрасны. За время своей связи с русским военным министром она убедилась, как много обычных безумцев пытаются втюхать русскому флоту свои изобретения.
– Помните, милый Алекс, того смешного человечка из… как же это?.. Penza, – воздела глаза она, изображая, что охвачена воспоминаниями. – Нам еще подали дивных жареных фазанов. Он предлагал торпеды на утиных лапках.
Остальное военный министр вспомнил сам: …а потом пензенский изобретатель упал на пол, изо рта у него буйно пошла пена, потом его скрутили и вынесли.
– Мичман, вы говорите вздор! – тут же пустился во всю прыть князь. – Кальмар? Вы предлагаете русскому флоту пересесть на кальмаров? Вы белены объелись? С этим вы осмелились беспокоить меня?
Но мичман, несмотря на розово-золотистую масть и неуклюжесть теленка архангелогородской породы, не растерялся:
– Ничуть, господин министр. Идея смущает на словах, я понимаю. Поэтому изготовил опытную модель своего аппарата. Извольте.
Он поднял локоть, забираясь рукой в карман. Успел сбить и поймать вазу. Водрузил ее на место. И извлек нечто, видом напоминающее чугунный пирожок.
– Несмотря на размер, эта модель работает как настоящая.
Госпожа Гюлен зазвонила в колокольчик и велела явившейся горничной немедленно наполнить ванну…
– …холодной водой.
Та исподтишка бросила взгляд на одного мужчину, на другого. Сделала быстрый вывод – и еще более быстрый книксен: отнесла эту эротическую игру, да еще в холодной воде, к разряду «наслаждение через страдание». Понятливо кивнула.
Ванна была готова в несколько минут.
Войдя первой, госпожа Гюлен незаметно смахнула небольшой кнутик, предусмотрительно повешенный горничной поверх полотенец. Все трое встали у бортика. От чугунных стенок ванны дышало холодом. От собравшихся – горячим ожиданием. Хотя и совершенно разного. Князь Меншиков как бы невзначай положил ладонь на выпуклый зад госпожи Гюлен.
Мичман Абрикосов на ладони, размером и формой похожей на саперную лопатку, поднес аппарат к поверхности. Затаил дыхание.
– Сейчас она прыснет, – пообещал мичман.
«Сейчас этот увалень собьет полку с моими кремами и притираниями», – подумала госпожа Гюлен.
Но ошиблась.
Сила реактивного напора оказалась и впрямь изрядной.
Струя ударила ее в грудь, как пуля. Госпожа Гюлен попятилась. Сама сбила полку. Посыпались вниз баночки и флаконы.
– О мой бог! – крикнул князь. Фыркнул, но вовремя успел поперхнуться и проглотить смешок.
Госпожа Гюлен презабавно мигала.
– Я вас сейчас вытру, – потянул край полотенца – заодно оборвав вешалку – растерянный мичман.
Ванную наполнил острый запах индийской туши.
Ибо мичман, желая нагляднее показать работу двигателя и полагая, что вода в воде не будет видна, заправил полость миниатюрной «Ольги» из чернильницы с письменного стола.
Госпожа Гюлен увидела свое отражение в зеркале.
И мгновенно сообразила, как она это всегда называла, «сделать из дерьма шоколад». Соображать быстро она умела всегда.
– Заговор! – завопила она. – Саботаж!
– Дорогая! – суетился князь.
– Эта тушь не сойдет несколько дней! Мое лицо испорчено! Я не смогу сегодня вечером играть! Этот злодей не инженер! Он подослан мадам Верни!
Мадам Верни была второй примой Французского театра.
Что лопотал мичман, натыкаясь на кресла, вешалки, стены, было уже неважно.
Важно, что его дурацкий кальмар, по-видимому, не был полной чушью. Струя действительно ударила сильно. Двигатель работал. И даже если не все в нем было совершенно, французские военные инженеры вполне могли довести изобретение до боевого совершенства.
– Арестуйте его! Алекс! О, Алекс! Кто защитит меня от зависти и зла?
И Алекс защитил.
Чертежи остались лежать на столе. Миниатюрная «Ольга» плавала в наполненной ванне на боку, как дохлая рыба.
Госпожа Гюлен вынула ее, обхватив умелыми пальцами, подавила странное желание лизнуть блестящий бок и заботливо обтерла полотенцем.
***
Тишина, которой собратья по перу откликнулись на его идею, Пушкину не понравилась. Его восторг ударился об нее, как о ватную стену. Чехов изучал сизую струйку, тянувшуюся от папиросы. Гоголь, закинув одно острое колено на другое, нервно тряс ступней в лакированном башмаке. Лермонтов скрестил на груди руки и смотрел в пустоту, будто его здесь и не было.
Тишину пришлось нарушить самому.
– Что ж?
– Я сомневаюсь, – нехотя признался дыму Чехов, плечи которого еще грело недавнее пушкинское объятие.
– Хорошо, – не стал возражать Пушкин. – Где, по-вашему, изъян в этой истории?
– Она его любит.
– С каких пор это изъян?
– Я про такое написал «Душечку». Любящая женщина верит любой дурости, если только та исходит от мужчины. К тому же ее тоже зовут, вы сказали, Оленька…
– Славное русское имя.
– Бр-р-р, – зябко передернул плечами Чехов. – В «Душечке» у меня тоже Оленька. Совпадение? Не люблю совпадений. Считайте меня суеверным, господа: не люблю.
С тех пор как с нужником начало твориться что-то странное, Чехов сделался мнительным. Пристальнее и подозрительнее вглядывался в пестрое покрывало реальности. Но скрывал это от остальных, стыдясь себя. Он помнил коварную власть галлюцинаций еще с тех пор, когда был болен и ложками хлопал кокаин, опиум, героин. Он ее боялся.
Гоголь скрипнул креслом. Все обернулись на него. Он съежился,