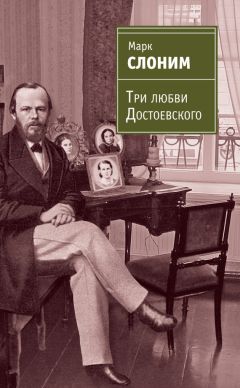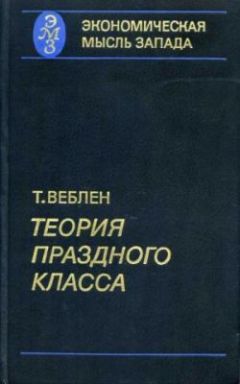Он вспоминает о том, что было перед его отъездом:
"Но ты была так занята, только один раз и было, когда мы возвращались с обеда накануне отъезда, да еще безумные" (строчка зачеркнута Анной Григорьевной). "Вспоминаю теперь, ангел мой, что я тебе позволил (опять зачеркнуто), а теперь боюсь... Ты можешь смеяться слову "позволил". (Речь, вероятно, шла о том, что она хотела предупредить новую беременность). А через несколько дней в письмах звучит та исступленность, какая была у него в молодости:
"Целую пять пальчиков на твоей ножке, целую {291} ножку и пяточку, целую и не нацелуюсь, всё воображаю это... И, наконец, как ты можешь дивиться, что я так люблю тебя, как муж и мужчина? Да кто же меня так балует, как ты, кто слилась со мной в одно тело и в одну душу? Да все тайны наши на этот счет общие! И я не должен после этого обожать каждый твой атом и целовать тебя всю без насыщения, как и бывает? Ведь ты и сама понять не можешь, какая ты на этот счет ангел-женочка! Но всё докажу тебе возвратясь. Пусть я страстный человек, но неужели ты думаешь (хоть и страстный человек), что можно любить до такой ненасытности женщину, как я тысячу раз уже тебе доказывал". Некоторые письма явно написаны в состоянии острого эротического возбуждения:
"Моя бесценная, моя жена и любовница, обещаешься потолстеть - вот это прелесть. И здоровья больше и всего будет больше... дай тебе Бог, не для одного того, то само собою и мы спуску не дадим... в этом отношении пора бы нам встретиться (ух, пора!) влюбленный в тебя муж, целую пальчик на ножке...".
Летом 1879 года он снова в Эмсе, здоровье его плохо, эмфизема легких (катарр дыхательных путей и сосудов), почти не поддается излечению, ему 58 лет, - а письма к жене дышат все той же физической страстью, ревностью, желанием:
"Каждую ночь ты мне снишься... целую тебя всю, ручки ножки обнимаю... себя... береги, для меня береги, слышишь, Анька, для меня и для одного меня... как хочется мне поскорее обнять тебя, не в одном этом смысле, но и в этом смысле до пожару"... (зачеркнуто Анной Григорьевной).
Возможность близкой смерти только усиливает его любовь. И в то же время он забывает ее День Ангела, он рассеян и забывчив (однажды, в официальном {292} учреждении, выбирая метрику дочери, он забыл девичью фамилию Анны Григорьевны).
К сожалению, большинство его писем 1879 года из Эмса изуродовано его женой, не желавшей, чтоб кто-нибудь узнал все интимные стороны половой жизни Достоевского, и о том, что он хотел сказать, мы можем лишь догадываться:
"Теперь об интимном очень, - пишет он в августе 1879 года, - пишете, царица моя и умница, что видите самые соблазнительные сны (зачеркнуто две строки). Это привело меня в восторг и восхищение, потому что я сам здесь не только по ночам, но и днем думаю о моей царице и владычице непомерно, до безумия. Не думай, что только с одной этой стороны, о, нет, но зато искренне признаюсь, что с этой стороны думаю до воспаления. Ты пишешь мне письма довольно сухие, и вдруг выскочила эта фраза (зачеркнуто десять с половиной строк)... которой бы она не схватывала мигом, оставаясь вполне умницей и ангелом, а, стало быть, всё происходило лишь на радость и восхищение ее муженька, ибо муженек особенно любит, когда она вполне откровенна. Это-то и ценит, этим-то и пленился. И вот вдруг фраза: самые соблазнительные сны (зачеркнуто шесть строк). Позвольте, сударыня (зачеркнуто шесть строк). Ужасно целую тебя в эту минуту. Но чтоб решить о сне (зачеркнуто две строки), то, что сердечко моей обожаемой жонки (зачеркнуто полторы строки). Анька, уже по этой странице можешь видеть, что со мной происходит. Я как в бреду, боюсь припадка. Целую твои ручки и прямо и в ладошки и ножки и всю".
Через три дня он говорит о том же самом:
"И вот я убедился, Аня, что я не только люблю тебя, но и влюблен в тебя, что ты единая моя госпожа, и это после 12 лет! Да и в самом земном смысле говоря, это тоже так, несмотря на то, что уж, конечно, ты {293} изменилась и постарела с тех пор, когда я тебя узнал еще девятнадцати лет. Но теперь, веришь ли, ты мне нравишься и в этом смысле несравненно более, чем тогда. Это бы невероятно, но это так. Правда, тебе еще только 32 года, и это самый цвет женщины (зачеркнуто пять строк)... это уже непобедимо привлекает такого, как я. Была бы вполне откровенна - было бы совершенство. Целую тебя поминутно в мечтах моих всю, поминутно взасос. Особенно люблю то, про что сказано: "и предметом сим прелестным - восхищен и упоен он". Этот предмет целую поминутно во всех видах и намерен целовать всю жизнь. Аничка, голубчик, я никогда, ни при каких даже обстоятельствах в этом смысле не могу отстать от тебя, от моей восхитительной баловницы, ибо тут не одно лишь это баловство, и та готовность, та прелесть и та интимность откровенности, с которою от тебя это баловство получаю. До свидания, договорился до чертиков, обнимаю и целую тебя взасос".
Иногда эта его эротическая скороговорка напоминает речи старика Карамазова, и его безудержное сладострастие. Некоторые строки исключительно разоблачающие: "В мыслях целую тебя поминутно, целую и то, чем "восхищен и упоен я". "Ах, как целую, как целую! Анька, не говори, что это грубо, да ведь что же мне делать, таков я, меня нельзя судить. Ты сама (одно слово зачеркнуто), свет ты мой, и вся надежда моя, что ты поймешь это до последней утонченности... До свиданья, ангел мой (ах, кабы поскорей свидание!). Целую пальчики ног твоих, потом твои губки, потом опять (одно слово зачеркнуто)".
Повторения, приписки, восклицания и намеки с ужимками нередко придают болезненный, почти патологический тон этим излияниям. Их поток не прекращается даже в самые знаменательные дни его жизни, в 1880 году, когда в Москве, на Пушкинских {294} торжествах, он произносит речь, вызвавшую бурные овации и сделавшуюся чуть ли не программой для целого поколения поздних славянофилов и почвенников. Именно в Москве выразил он свои заветные надежды о миссии России:
"Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским... значит только стать братом всех людей, всечеловеком... Это значит: внести примирение в европейские противоречия, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловеческой и всесоединяющей... и в конце концов, может быть, изречь окончательное слово великой общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову Евангельскому закону".
Но среди волнения и восторгов, вызванных этой речью, после чествований и банкетов, где он, признанный великий писатель и выразитель национальной идеи, был предметом всеобщего внимания и поклонения, он думал о своей Ане и писал ей: "А я всё вижу прескверные сны, кошмары каждую ночь, о том, что ты мне изменяешь с другими. Ей Богу. Страшно мучаюсь".
К старости он до того привык к Анне Григорьевне и семье, что совершенно не мог без них обходиться. В домашнем кругу несколько утихала вулканическая работа его духа, уменьшалось его внутреннее беспокойство - но едва он оставался один, как волнения и страхи подымались с новой силой. Он уезжает в Эмс, на лечение, позади у него несколько месяцев мирного существования в Старой Руссе, никаких неприятностей не предвидится, но разлука с семьей подавляет его, он приезжает в Эмс нервный, усталый, "изломанный", по его выражению, садится в кресло, закрывает глаза на минуту, и засыпает на полтора часа - в совершенном изнеможении. {295} "Обабился я дома за эти восемь лет ужасно, Аня, - пишет он в 1875 г., - не могу с вами расстаться даже на малый срок, вот до чего дошло".
Заграницу ему приходилось ездить каждое лето, потому что астматическое его состояние ухудшилось, а врачи прописывали ему целебные воды Эмса. Во время этих поездок и пребывания на курорте он страдал от скуки, боялся, что вернутся припадки падучей, невероятно преувеличивал денежные трудности и видел самые ничтожные мелочи быта в каком-то горячечном, фантастическом свете. Чувствительность его оставалась такой же повышенной, как и в молодости, и, по сравнению с окружающими, он всё переживал с удесятеренной интенсивностью: читает книгу Иова и готов рыдать от восхищения, встречает на улице Эмса больного глазами ребенка, которого отец-сапожник из экономии не ведет к доктору, и это расстраивает его на целый день, Анна Григорьевна пишет, что виделась с В., питавшем к ней некогда нежные чувства, и он уверен, что она ему изменила, и безумствует в отчаянии, ужасе, ревности и любви.
Годы старости мало изменили его характер и темперамент: разве только, что он чаще молился - в тишине и уединении, и все охотнее возвращался к своему детству. В конце его жизни воспоминания о давно прошедших временах вдохновляют многие образы его произведений.
Мужик Марей, носитель христианской любви и правды, о котором он рассказал в "Дневнике писателя" (февраль 1876, гл. 1) несомненно - портрет крепостного Марка, поразившего воображение десятилетнего мальчика в Даровом в 1831 г. Эпизод с Лизаветой Смердящей в "Братьях Карамазовых" воспроизводит историю дурочки Аграфены в том же Даровом.