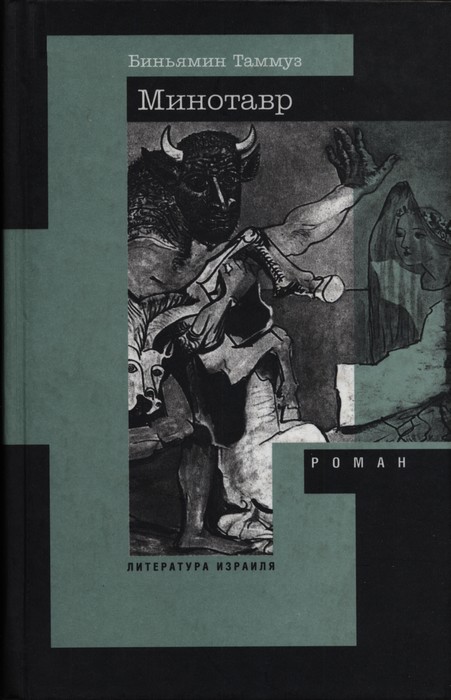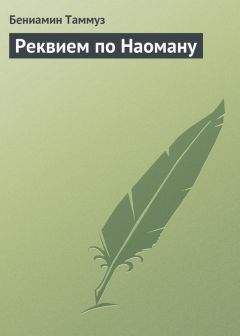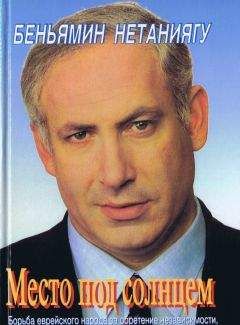позволял ему переступать через целые пласты времени, позволял забывать или не помнить то, что держать в памяти он не хотел — касалось ли это узкой тропинки от дома на холме к мошаву внизу или коробки шоколадных конфет, которыми он угощал — или подкупал? — своих небогатых товарищей по комнате в сельскохозяйственной школе, не говоря уже о том, как он поступил с Леей. В его ушах теперь все время звучал голос того араба, которого он убил голыми руками много лет назад и который чудесным образом воскрес благодаря звучавшему повсюду арабскому языку. Вокруг него были лица арабов, и в нем теплилась надежда, что когда-нибудь он увидит в чьем-нибудь взгляде понимание и прощение. Каждый случайный собеседник словно снимал с него какую-то долю вины, которая вот уже столько лет не давала ему покоя; иногда ему казалось, что он прощен, иногда же — что прощения не будет никогда.
Люди в этом арабском пространстве, в которое он окунулся сейчас, пребывали в испуганной растерянности, ошеломленные быстротой поражения. Их жизнь изменилась, и они не в состоянии были этого осознать. Что же мог сделать Александр, чтобы хоть как-то их успокоить? Он раздавал подарки арабским детям, вытирая им мокрые носы; он щедрою рукой избавлялся от немудреных медных и серебряных украшений, которые за бесценок покупал в лавках, насильно вкладывая их в руки удивленных, недоумевающих феллашек, которые приходили, порой издалека, из окрестных деревень, надеясь продать собранные ими фрукты или овощи. Ничего не понимающие женщины бежали за ним следом, одаривая то гроздью винограда, то связкой бананов, бормоча слова благодарности и целуя ему руки, а он продолжал свой одинокий путь меж арками, с гроздью винограда в руке и испугом в сердце. По-прежнему ощущая, что и здесь он все равно чужой. По-прежнему ощущая неразгаданность загадки…
Он знал, что в ту же ночь, в крайнем случае через два-три дня, он вернется в Тель-Авив и станет активным участником свершавшихся на его глазах завоеваний, закрепляя захват территорий и уничтожая этот сложившийся уклад арабской жизни. Хотел ли он, намеревался ли каким-то невероятным образом соединить неким мостом свои тель-авивские дела с прогулками по территориям? Нет. Это были две сущности, жившие в нем совершенно раздельно, мистер Джекиль и мистер Хайд; и раздельное их сожительство вовсе не мешало ему. Он уже понял, что давно живет в такой раздвоенности. Только раньше границы этой раздвоенности были мягче и неопределенней; в отличие от сегодняшних жестких их очертаний.
«Кто я? — писал он в своем дневнике. — Теперь мне легче ответить на этот вопрос. То, что раньше было моим личным, одиноким ощущением, стало теперь коллективным переживанием. Раньше я был единственным в своем роде сыном Израиля, боровшимся с ангелом смерти на переправе через Явок, боролся и победил по воле Бога. Теперь все сыны Израиля, весь народ принимает участие в этой борьбе, и это похоже на групповое сумасшествие. Немногие, вероятно, об этом догадываются. Но чувствуют это все — победа зародила семена поражения. Они боролись не на жизнь, а на смерть, и вот один жив, и он не торжествует, а другой мертв, и нет уже для него пути назад, и победителю никуда не деться от жертвы, они неразделимы, они едины, и не может один жить без другого, и что же теперь делать, если один из них навеки мертв? Один? Или все-таки оба? И пройдет столько поколений, пока мертвые не воскреснут. И тогда, в этой пьесе под названием жизнь, кто из нас по воле автора первым поднимется? И чью роль я исполняю каждый раз заново в этом непрерывном спектакле — того, кто убил, или того, кто был убит и воскрес? Я ощущаю себя человеком, у которого есть прошлое и будущее, но нет настоящего. Я вижу десятки таких, как я, но они не одеты в купленную в Лондоне одежду; скорее всего, на них будет феска или куфия, и, конечно, говорить они будут не по-русски и не по-немецки. Это будет арабский, и это будет иврит. Или некая смесь того и другого; все смешается. Появится, а точнее, возродится давно исчезнувшая, утраченная раса, нет, смесь всех рас, новая генерация левантийцев: черные, жесткие, вьющиеся волосы и серые глаза, раса, отличающаяся от других манерой говорить; их речь будет похожа на крик, сопровождаемый выразительной жестикуляцией. Начало уже есть — во мне. Я сам такой же, во мне начало этой нити, я ощущаю ее в себе, нравится мне это или нет. А пока что мне преподан урок. И произошло это в последние несколько недель»…
Вскоре Александр вынужден был вернуться в Европу. Его снова ждала работа. Оказавшись через год в Израиле, он понял: волшебство исчезло. Арабы на территориях быстро оправились от первого шока. Их реакцией на поражение стал слепой террор. Они бросали гранаты в еврейских городах и убивали одиночек в переулках и отдаленных деревнях, они взрывали дома и брали в заложники детей. Что ни месяц взрывалась очередная бомба, и тогда будущее рука об руку с прошлым спешило в укрытие, а все мысли о настоящем лишь время от времени, да и то на считанные мгновения, возвращались к тому, кто когда-то успокаивал себя утешительными иллюзиями. Число таких мечтателей и фантазеров уменьшалось с возрастающей быстротой, и очень похоже было, что скоро их не станет совсем.
24
Однажды, в день, когда Александру исполнился сорок один год, он припарковал свою взятую напрокат машину на стоянке на окраине Лондона и, изрядно промокнув под дождем, сел в автобус, направлявшийся в центр города. Опустившись на первое попавшееся сиденье, он предался размышлениям на эту далеко не радостную тему. Отвлек его шум открывающихся на следующей остановке дверей, и когда он поднял глаза, то увидел двух девушек, усаживающихся на свободные места прямо перед ним. У той, что села слева, были волосы цвета темной меди, отливающие золотым блеском, они были схвачены на затылке черной бархатной лентой, завязанной перекрещенным узлом.
И от ленты, и от ее волос исходило ощущение какой-то первозданной чистоты и свежести, словно их никогда не касалась человеческая рука. Чьими же стараниями был завязан этот узел на ее затылке, задумался человек, которому исполнился в этот день сорок один год. Он стал ждать, когда она повернет голову и он увидит ее профиль, и девушка, говоря что-то подруге, действительно повернулась к нему в профиль, и он увидел ее лицо. Ему удалось сдержать ладонью едва не вырвавшийся из горла крик. Или крик, задушенный в самом начале,