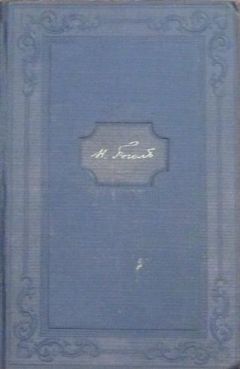В „Московском Наблюдателе“ 1835, № 2, рецензия на „Миргород“ была написана Шевыревым. Для Шевырева, — представителя патриархально-дворянского консерватизма 30-х годов, — в отличие от Булгарина и Сенковского, приемлем весь Гоголь в его характерных чертах (отбрасывается только фантастика „Вия“): не только патетический и чувствительный, но и комический Гоголь. Но это признание Гоголя достигнуто ценою существенного обеднения его содержания, комизм Гоголя понят Шевыревым согласно с определениями французского классицизма (в конечном счете — Аристотелевыми) как „безвредная бессмыслица“. Юмор Гоголя определен как „простодушный“; таким образом, элементы критического отношения к действительности в гоголевских повестях Шевыревым не были замечены. При этом в согласии с Сенковским, упрекавшим Гоголя за героев из „дурного общества“, Шевырев требует от Гоголя другой — светской тематики: „столица уже довольно смеялась над провинциею и деревенщиной… высший и образованный класс всегда смеется над низшим… Но как бы хотелось, чтобы автор, который, кажется, каким-то магнитом притягивает к себе всё смешное, рассмешил нас нами же самими; чтобы он открыл эту бессмыслицу в нашей собственной жизни, в кругу так называемом образованном, в нашей гостиной, среди модных фраков и галстуков, под модными головными уборами“. Как видно из отмеченного выше определения комизма как безвредной бессмыслицы, Шевырев призывал Гоголя не к сатирическому изображению большого света: сущность его советов заключалась в требовании отказа от демократизации повествовательной тематики. Как иронически резюмировал Чернышевский, Гоголь в „Миргороде“ — в глазах Шевырева — „беззаботный весельчак, который для столичных светских людей рисует преуморительные карикатуры провинции, не имеющей понятия о модных галстуках“ (Соч. Чернышевского, 1906, т. II, стр. 100). При анализе отдельных повестей (кроме „Повести о том…“) Шевырев неизбежно вступает в противоречие со своей общей характеристикой Гоголя и „Миргорода“. По поводу „Старосветских помещиков“ он пытается полемизировать с критиками, „которые ограничивают талант автора одною карикатурою“; в „Тарасе Бульбе“ он отмечает „талант многосторонний, решительный и кисть широкую и смелую в повествователе“. По существу, однако, Шевырев и здесь примыкает к тем самым критикам, с которыми полемизирует, так как именно „Старосветские помещики“ и „Тарас Бульба“ были ими одобрены. Оценка Шевырева по существу не отличается от оценки Сенковского. Они совпадают даже в деталях; Шевырев только смягчает резкость некоторых формулировок Сенковского. Сенковский подчеркивает у Гоголя „особое дарование рассказывать шуточные истории“, Шевырев — „чудный дар схватывать бессмыслицу в жизни человеческой и обращать ее в неизъяснимую поэзию смеха“. Сенковский рядом с этим приветствует „верность и простоту красок“ и „неподдельное чувство“ в „Старосветских помещиках“ и „Тарасе Бульбе“; то же в тех же почти выражениях говорит о „Старосветских помещиках“ Шевырев, очевидно, не замечая в повести ничего большего. Совпал Шевырев с Сенковским и в отрицательной оценке „Вия“.
К оценкам Шевырева примыкают оценки „Литературных прибавлений к Русскому инвалиду“ Воейкова, ориентирующихся на читателя из „хорошего общества“, в эстетическом же отношении довольно беспринципных. Здесь особенно показательны упоминания о Гоголе мимоходом. Гоголь (которого журнал упорно именует „Гогелем“ или „Гогелем-Яновским“) в глазах Воейкова и его сотрудников — только один из многих талантливых русских повествователей. Так, например, в № 77 от 25 сентября 1835 г., в противовес выдвигаемому Сенковским А. П. Степанову, названы романы Погорельского, Греча, Петра Сумарокова и повести Пушкина, Марлинского, кн. Одоевского, Павлова, Погорельского, Гогеля-Яновского, Луганского, Карлгофа, Владиславлева. Подобные перечни — с „Гогелем“, теряющимся в ряду других имен — в „Литературных прибавлениях“ не единичны. В другом месте (№ 75 от 18 сентября) „сказки“ Гоголя определены как „Лафонтеновски-простодушные и вместе остроумные“. Серьезнее специальная рецензия, напечатанная в том же журнале, „Мои коммеражи о соч. Н. Гоголя: «Миргород»“ (№ 33 от 24 апреля). Автор, подписавшийся А. в. л. м., начинает с таких в общем сочувственных гоголевскому методу тезисов: всякий момент из жизни человека, „находящегося в борении с ближним и с природою“, может быть сюжетом повести; назидательность не должна навязываться. „В повестях Н. Гоголя сюжет прост, занимателен, величествен, как природа, рассматриваемая не очами слепца; выполнен сюжет увлекательно“. Рецензент обратил внимание на отказ Гоголя в „Миргороде“ от прежней напыщенности; полемизируя с Сенковским, он приветствует „отсутствие светскости“ у Гоголя: „В повестях Н. Гоголя видно, что автор не думал ни о читателях, ни о модном свете; он видел только предмет описываемый и весь исчезал в предмете“. Однако, эти более или менее верные положения не подкреплены анализом отдельных повестей; переходя к частностям, рецензент обнаруживает недооценку Гоголя. Это сказалось уже в отнесении повестей Гоголя к разряду „фамильных повестей“ типа повестей Цшокке; в определении героев Гоголя как „ярких, добрых оригиналов“; наконец, в почти исключительном внимании к „Тарасу Бульбе“ (мельком упомянута фигура миргородского городничего из „Повести о том, как поссорился…“). Как пример снисходительно-поверхностного отношения к реализму „Миргорода“ любопытно упоминание о нем Надеждина в статье „Европеизм и народность“ („Телескоп“, 1836, № 2). По поводу школы псевдонародных писателей (А. Орлов и др.), которых надо „гнать из литературы“, Надеждин делает исключение для изображения поэзии простого быта и рядом с Загоскиным приводит в пример Гоголя — его образы пьяного казака из „Тараса Бульбы“ и Ивана Никифоровича „в натуре“. Считая, „что народность и в этом ограниченном, грязном смысле, пройдя чрез горнило вдохновения, может иметь доступ в литературу и, следовательно, не заслуживает безусловного преследования и отвержения“, Надеждин всё же требует народности в „гораздо обширнейшем“ значении.
Рядом с этими недооценками и полупризнаниями обнаруживается в разных литературных группах начало борьбы за Гоголя. С одной стороны показательны попытки истолковать Гоголя в охранительно-примирительном смысле при одновременном признании его большого литературного значения. С другой стороны, в прогрессивной общественности 30-х годов мы наблюдаем факты прямой солидаризации с Гоголем, воспринятым во всей полноте и сложности.
Для первого ряда явлений характерно „Письмо из Петербурга“ М. П. Погодина, помещенное в том же номере „Московского Наблюдателя“, где и статья Шевырева. Гоголь назван здесь „первоклассным талантом“, „новым светилом“ словесности; впечатление от „Миргорода“ (может быть, впрочем, только от „Тараса Бульбы“: из контекста это неясно) резюмировалось так: „Какое разнообразие! Какая поэзия! Какая верность в изображении характеров! Сколько смешного и сколько высокого, трагического!“. „Прекрасной идиллией и элегией“ названы и „Старосветские помещики“. Таким образом беглое упоминание Шевырева о „многосторонности“ Гоголя здесь развито (хотя подлинное содержание этой „многосторонности“ не раскрыто); Гоголю отведено первое место среди повествователей („вы… должны будете поклониться этим повестям со всеми нашими повествователями без исключения, стихотворными в прозаическими“). За восторгами Погодина скрывается, конечно, представление о „безобидном“ объективизме Гоголя.
В других случаях сочувственные отзывы о Гоголе настолько лаконичны, что не могут быть с уверенностью расшифрованы. Таковы, например, мельком брошенные слова Вл. Одоевского о Гоголе, как о „лучшем таланте в России“ (статья 1836 г. „О вражде к просвещению“ по поводу параллели Гоголь — Поль-де-Кок, пущенной в ход Сенковским). Одоевским же начата была и статья о „Миргороде“, но сохранившийся отрывок дает только частные замечания об умении Гоголя изображать „человека низшего класса“ („Повесть о том, как поссорился…“).[8] Кратко, но выразительно охарактиризовал Гоголя этой поры Е. А. Боратынский: „наш веселый и глубокий Гоголь“ (письмо к М. П. Погодину, датируемое 4 мая 1835 г.; Барсуков, „Жизнь и труды Погодина“ т. IV, стр. 277).
Беглым был и отзыв Пушкина о „Миргороде“. Помещенная в первом томе „Современника“ 1836 г. рецензия его на второе издание „Вечеров на хуторе“ заканчивалась отзывом об „Арабесках“ и „Миргороде“: „Вслед за тем явился Миргород, где с жадностию все прочли и Старосветских помещиков, эту шутливую, трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления, и Тараса Бульбу, коего начало достойно Вальтер-Скотта. Г. Гоголь идет еще вперед. Желаем и надеемся иметь часто случай говорить о нем в нашем журнале“. При всей своей беглости, отзыв этот замечателен тем, что впервые дал лапидарную формулировку сложности и противоречивости впечатления от гоголевского творчества („смеяться сквозь слезы грусти и умиления“), а также той перспективой, в которую творчество это вдвигалось (не Цшокке и не русские новеллисты 30-х годов, а Вальтер Скотт, на что тотчас же отозвался в „Северной Пчеле“ Булгарин, отказываясь „безотчетно жаловать г. Гоголя в русские Вальтер Скотты“). Впрочем, историко-литературная перспектива для Гоголя была еще до пушкинской рецензии установлена в статье Белинского. Белинский в эти годы — годы своего идеологического созревания (еще до „периода примирения с действительностью“) — последовательно противопоставлял реакционным теориям „безвредного“ искусства требования реалистической эстетики. В „Миргороде“ Гоголя Белинский нашел осуществление своих эстетических идей.