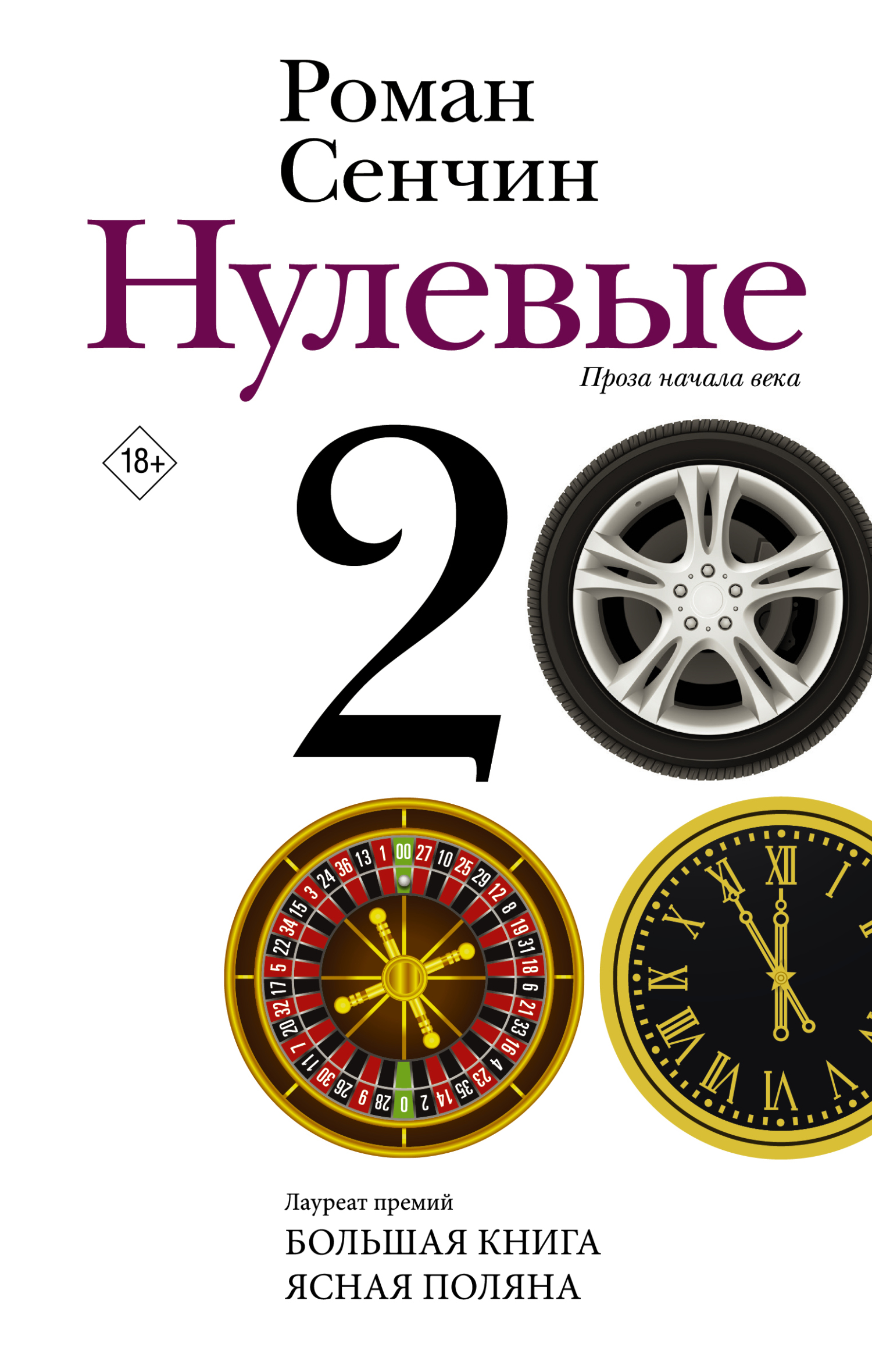кривые черемухи в палисадниках, высокие навесы сенников. Кирпичная башня водокачки, двухэтажная школа… Трактор «Беларус» ползет, переваливаясь на ухабах, петух взлетел на забор…
За деревней блестит чешуей перекатов река, за ней горный хребет. Сейчас он серый – лиственницы еще не проснулись.
Давно он не был там. Лет уж пятнадцать. И так вдруг захотелось взять и перенестись, пройти, чавкая грязью и хрустя угольным шлаком, который по традиции высыпали на улицы, пытаясь сделать землю суше… Шагать, дыша глубоко, так, чтоб чистый воздух расправлял легкие, доходил до печенок, здороваться с людьми, узнавать знакомое и знакомых. Избы, людей, обклеенный объявлениями столб у магазина, врытое дядь Гришей на углу колесо от «Кировца», чтоб защищало забор – вечно цепляла техника…
Друцкий, ослепленный картиной, аж подался вперед. И ткнул животом ограждение балкона. Очнулся, встряхнулся. Закурил.
Некуда теперь. Не к кому. Близкой родни не осталось, а друзья детства, одноклассники… Не придешь же и не скажешь: можно у вас поселиться? О своем жилище теперь и мечтать не стоит – только душу бередить. Денег в загашнике – на два месяца скромной жизни. И так примерно – то похуже, то получше – уже много лет. Да всю жизнь, считай…
Собирался подремонтировать зубы – стыдно перед партнерами рот раскрывать. Но вот, видимо, не получится.
Ох-х, когда занят, когда работаешь или просто переплываешь из одного дня в другой, из другого в третий – и не замечаешь проблем, вечной угрозы остаться на улице. А вот если обстоятельства из колеи выбивают – сразу наваливаются мысли. Душат, давят. И какой-нибудь дом престарелых представляется спасением. Да кто ж туда их пустит.
– Слава, ну что ты тут всё стоишь? – Голос сзади.
Жена. И Друцкий поморщился, ожидая упреков, булькающих слез в горле, жалоб. Решил: сейчас прорвет. Тихая депрессия должна во что-то перерастать. Но Лариса сказала другое и по-другому, почти ласково:
– Я пьесу нашла. Прекрасная пьеса. Наш земляк, из Сибири, Роман Солнцев. «Ждем человека». Там двое – старше нас, но не сильно. Пойдем, я тебе почитаю.
Обняла за плечи, мягко повернула. Выражение лица не страдальческое. Морщины на лбу разгладились, губы в полуулыбке… Взяла Друцкого за руку, повела на кухню, оттуда в комнату. Говорила:
– Они в лесном домике, а вокруг пожар. Ждут помощи, вспоминают… Такие душевные диалоги. Удивительно. Я тебе сейчас почитаю. Может быть, в театр предложим, когда всё кончится. Или сами. Сейчас многие дома репетируют, сами. И потом записывают на компьютере, выставляют. Надо что-то делать, Слава, обязательно надо. Сейчас я тебе почитаю…
Полвека назад больница была новой и свежей. Галина Павловна помнила, как ее строили. Сначала снесли избушки из черных, будто обугленных бревен, – а они действительно были обуглены, обуглены солнцем, – потом вырыли котлован и заложили фундамент, затем стали слоями класть молодые, сочно-оранжевые кирпичи.
Кирпичи накрыли шифером, в темные прямоугольники в стенах вставили рамы, и на стеклах днем играли солнечные лучи, а вечером окна светились от электричества. Правда, светились по-разному – одни, поменьше размером, уютно-желто, другие, широкие и высокие, – холодно и бело.
В детстве Галина Павловна не понимала, почему свет разный, придумывала объяснения, сказочные и сложные, а когда подросла, узнала: за небольшими окнами находятся кабинеты врачей и палаты с больными, а за широкими и высокими – операционные. Там людей разрезают, достают сломавшиеся органы, что-то меняют и зашивают.
Ей открылось, что человек может жить без многого – без кишок, без части желудка, без легкого, почек, селезенки, желчного пузыря, без глаз, ног, рук, языка…
Ребенком она часто болела ангиной, и самым действенным способом не болеть ею в то время считали удаление миндалин. И Галине Павловне их удалили. Это аукнулось лет через тридцать – ее стала душить астма.
В теплое время года болезнь проявлялась редко, но наступал отопительный сезон – город состоял большей частью из деревянных домов с печками, – и Галина Павловна начинала задыхаться. На улицу почти не выходила, правда, это слабо спасало – угольный чад доставал и в квартире; один приступ следовал за другим, таблетки и ингаляторы не помогали, и ее клали в больницу.
Кирпичи из оранжевых стали бордовыми, как куски вяленого мяса, рамы окон давно посерели, да и стекла, хотя их, конечно, мыли, всегда теперь были мутными, не блестели и в самые ясные дни. Внутри стéны, дверные косяки, потолки исправно красили и белили, но почти без толку – больница выглядела старой, пыльной, ветхой, и сразу, как только человек оказывался в ней, вызывала тоску и мысли о скорой смерти. Казалось, не только стены, потолок, кровати, одеяла, тумбочки, но и сам воздух, запертый в коридорах и палатах, до предела пропитался духом тысяч побывавших здесь больных людей. Лечившихся и не вылечившихся.
Такой же, после десятого или двадцатого привоза сюда, лечащейся, но неизлечимой считала себя и Галина Павловна. Даже сочувствовала врачам, которые часто досадовали, что бьются, бьются, а ничего по-настоящему не помогает. Ни капельницы, ни кислород, ни один ингалятор, ни другой. Легкое улучшение, а через неделю-другую скорая вновь привозит ее, жадно и впустую хватающую ртом не пробивающийся в легкие воздух.
Подобных было в больнице немало. В основном – пожилые. Кто с астмой, кто с язвой, сердечники, сосудистые…
Постепенно появились у Галины Павловны подруги поневоле. Часто сидели на лавочке в маленьком холле между отделениями пульмонологии и гастроэнтерологии. Наблюдали больничную жизнь.
Заведующей гастроэнтерологии была Зоя Сергеевна Бородавкина, поразительно похожая на свою фамилию.
– Вот расскажи кому, и не поверят, – шептались обитатели больницы, – как нарочно…
Узкое, костистое лицо Зои Сергеевны было щедро осыпано, может, и не бородавками, но какими-то наростами, выпуклыми родинками, бугорками. Губы очень узкие, углы рта загнуты книзу. Фигура тоже была незавидная – плечи косые, талия и бедра одного размера, ноги узловатые. Голос часто становился хрипловатым и резким, даже добрые фразы стегали, как плетка. Хотя заметно было, что хочет она говорить плавно и нежно.
– И ведь нестарая.
– По нынешним временам еще и замуж выйти не грех.
– К ней сватался один, говорят.
– Да что ты!
– Но. В позапрошлый раз когда лежала – слышала. Хороший человек – хирург с поликлиники.
– И она чего?
– Она категорически так: «Меня полюбить нельзя!» И всё, весь разговор.
Полюбить Зою Сергеевну, наверное, было можно, если долго-долго за ней наблюдать, с ней общаться. По крайней мере, Галине Павловне ее резкий голос, глаза, горячие, темные, стали со временем придавать сил. Да, голос стегал, глаза обжигали, и хотелось сделать над собой усилие и победить болезнь. И она