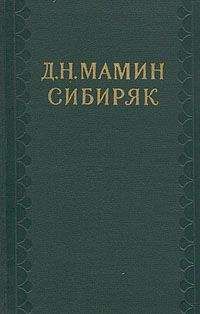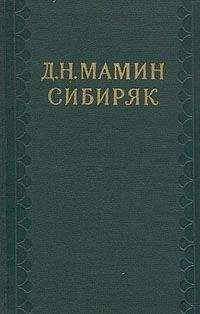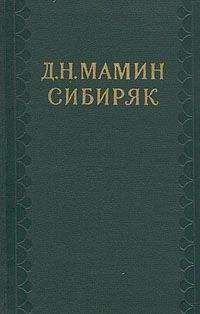— Это невозможно! — по-английски же ответил Прейн набобу, укоризненно качая головой.
— А если я не желаю ехать дальше? Могу же я позволить себе хоть одно желание?
— Да, в другое время, а не теперь, — пастаивал Прейн. — Вы расстроите своим капризом весь план нашей поездки.
— Ни шагу дальше, и сейчас же домой! — капризно повторял набоб. — Вы с генералом делаете из меня какого-то несчастного дупеля…
— Да ведь это ребячество! Продержать генерала в горах трое суток, обещать ехать по всем заводам и вернуться ни с чем… Вы не правы уже потому, что откладываете поездку из-за пустяков. Погорячились, изуродовали собаку, а потом капризничаете, что генерал сказал вам правду в глаза.
— Я уже слишком много слышал правды от генерала. Но что вы хотите наконец от меня? Собственно, он меня оскорбил, а не я его… Я, впрочем, могу извиниться перед генералом, но дальше не поеду, хоть зарежьте.
Как ни уговаривал Прейн, как ни убеждал, как ни настаивал, как ни ругался — все было напрасно, и набоб с упрямством балованного ребенка стоял на своем. Это был один из тех припадков, какие перешли к Евгению Константиновичу по наследству от его ближайших предков, отличавшихся большой эксцентричностью. Рассерженный и покрасневший Прейн несколько мгновений пристально смотрел на обрюзгшее, апатичное лицо набоба, уже погрузившегося в обычное полусонное состояние, и только сердито плюнул в сторону.
Поездка в горы перепутала окончательно все ходы, так что друзья и противники перестали понимать друг друга. Сначала, без сомнения, все было на стороне партии Тетюева: во-первых, Раиса Павловна оставалась дома, потом ряд блестящих гастрономических побед, удачная охота на оленя… Но в момент, когда «мой Майзель» был на верху торжества, все здание, возведенное с таким трудом, пошатнулось в самом основании: сначала подвел Родион Антоныч с собакой, потом Прозоров угостил Нину Леонтьевну, далее татарская борьба того же Родиона Антоныча и наконец заряд бекасинника по Brunehaut, произведший резкую размолвку между генералом и набобом. Обиднее всего было то, что безголовый Прейн рассказал набобу эпизод с Прозоровым, и набоб хохотал над Ниной Леонтьевной. Таким образом надежды и упования партии Тетюева значительно побледнели и потеряли прежнее обаяние, а известно, как много значит в каждом деле вера в собственные силы. Если генерал не удержится на прежней высоте, тогда трудно будет предвидеть будущее.
Генерал вернулся из-под Рассыпного Камня один, а за ним следом приехал и Евгений Константиныч в сопровождении всей свиты. Заводы остались неосмотренными, да об этом теперь никто и не заботился, даже сам генерал, который, кажется, махнул на все рукой. Добитая лесообъездчиками Brunehaut явилась камнем преткновения, через которое русское горное дело никак не могло переползти. Однако Прейн не дремал. Этот человек не переносил скандалов и резких выходок и поэтому скоро довел набоба до того, что тот высказал желание не только примириться с генералом, но и извиниться. С другой стороны, генерал, обсудив хладнокровно свою выходку, совершенно безупречную в нравственном смысле, нашел, что резкий тон этой выходки был подготовлен в нем неприятным отъездом Нины Леонтьевны, следовательно, он был несправедлив к набобу, который поступил так же, как делают другие охотники. Губить русское горное дело из-за таких пустяков, во всяком случае, не стоило, тем более что столько уже было сделано и оставалось только подвести итоги.
— Извините, генерал… — добродушно проговорил набоб, являясь в генеральский флигель в сопровождении Прейна. — Мне самому жаль бедной Brunehaut. Погорячился…
Эта искренность растрогала генерала, и он с чувством пожал протянутую руку набоба.
— Оставимте это, Евгений Константиныч, — отвечал он. — Говоря откровенно, и я не совсем был прав, хотя и не виноват… Одним словом, пустяки и вздор, о котором не хочется вспоминать; а чтоб загладить неприятное впечатление этих пустяков, займемтесь делом серьезно. Времени уже много потеряно…
— О, да, да! Непременно займемтесь! — с живостью подтвердил Евгений Константиныч. — Я буду рад… Главное, все разом покончить, не откладывая в долгий ящик.
— Постараемся покончить, — соглашался генерал.
Примирение набоба с генералом разрешило все сомнения и опять придало храбрости унывавшим «тетюевцам», как их называл Прозоров. Но это была только одна сторона медали. За визитом к генералу последовал визит набоба к Раисе Павловне. Конечно, все отлично понимали, зачем Евгений Константиныч сделал этот второй визит — уж, конечно, не для самой Раисы Павловны, а для Луши. Эта игра была слишком очевидна даже для непосвященных; поэтому ей и не придали особенно важного значения. Действительно, набоб встретил у Раисы Павловны Лушу и заметно обрадовался этой встрече.
— Как ваше здоровье, Раиса Павловна? — осведомился Евгений Константиныч с небывалой вежливостью. — Право, оно меня начинает сильно беспокоить…
— Ах, отстаньте, пожалуйста! Охота вам обращать внимание на нас, старух, — довольно фамильярно ответила Раиса Павловна, насквозь видевшая набоба. — Старые бабы, как худые горшки, вечно дребезжат. Вы лучше расскажите о своей поездке. Я так жалею, так жалею, что не могла принять в ней участие. Все говорят, как вы отлично стреляли…
Луша сидела на стуле рядом с Раисой Павловной и при последних словах едва заметно улыбнулась. Она точно выросла и возмужала за последнее время и держалась с самой непринужденной простотой, какая дается другим только путем мучительной дрессировки. Набоб заметил улыбку Луши и тоже улыбнулся: они понимали друг друга без слов.
— Эта поездка для меня лично явилась рядом неудач, — ответил набоб, бросая в глаз, неизвестно для чего, монокль. — Единственным объяснением этих неудач является, Раиса Павловна, только ваше отсутствие.
— Ах! как это трогательно, Евгений Константиныч!
— Уверяю вас. Дело кончилось тем, что мы чуть не разодрались с генералом, вернее, чуть он меня не поколотил…
— И следовало бы поколотить: зачем стреляли в собаку, — заметила Луша с серьезным видом. — Вот чего никогда, никогда не пойму… Убить беззащитное животное — что может быть хуже этого?..
Подняв плечи, Луша вызывающе посмотрела на набоба злыми глазами. Эта смелость испугала Раису Павловну, но набоб только улыбнулся и с ленивой улыбкой, играя своим стеклышком, проговорил:
— Скажите, вы не будете на меня в претензии, если я вас буду называть так же, как Раиса Павловна? А то ваше имя такое длинное и мудреное, что язык вывихнешь… Вы позволяете, Раиса Павловна? Я хотел сказать, что вы, mademoiselle Луша, были причиной смерти бедной Brunehaut. Если бы вы так внезапно не уехали, собака была бы жива… Представьте себе, Раиса Павловна, наше положение: вдруг все дамы бросают нас в лесу на произвол судьбы. С горя мы пили целую ночь, потом дурачились, а конец вам известен. Говоря по справедливости, нас и обвинять нельзя, а меня в особенности. Я слишком был огорчен, чтобы давать себе отчет в собственных поступках.
Набоб был любезен, как никогда, шутил, смеялся, говорил комплименты и вообще держал себя совсем своим человеком, так что от такого счастья у Раисы Павловны закружилась голова. Даже эта опытная и испытанная женщина немного чувствовала себя не в своей тарелке с глазу на глаз с набобом и могла только удивляться самообладанию Луши, которая положительно превосходила ее самые смелые ожидания: эта девчонка положительно забрала в руки набоба.
Они сидели в небольшой голубой гостиной, из которой стеклянная дверь вела на садовую веранду. Обитая голубым атласом с желтыми шнурами мягкая мебель, маленький диван с стеганой спинкой, вроде раковины, шелковые тяжелые драпировки, несколько экзотических растений по углам, мраморные группы у одной стены — все это так приятно гармонировало с летним задумчивым вечером, который вносил в открытую дверь пахучую струю садовых цветов. Сильно пахло левкоями, которые Раиса Павловна особенно любила. Лучи закатывавшегося солнца лениво бродили по паркетному полу рассеянной золотой пылью, которая ярко вспыхивала на бронзовых бра, на ручках дверей и тонких золотых багетах. Набоб сидел на стуле, заложив ногу за ногу, и легонько раскачивался, когда начинал смеяться; летняя пара из шелковой материи, цвета смуглой южной кожи, обрисовывала его сильное, по уже начавшее брюзгнуть тело. Из-под раструба панталон выставлялись шелковые пестрые чулки, потому что набоб дома всегда носил мягкие башмаки. Луша была в своем единственном нарядном платье из чечунчи; сначала она сидела рядом с Раисой Павловной, а потом перешла на диван.
Раиса Павловна с материнской нежностью следила за всеми перипетиями развертывавшейся на ее глазах истории и совершенно незаметно оставила молодых людей одних, предоставляя руководить ими лучшего из учителей — природу. Когда платье Раисы Павловны, цвета античной бронзы, скрылось в дверях, набоб, откинув нетерпеливо свои белокурые волнистые волосы пазад, придвинул свой стул ближе к дивану и проговорил: