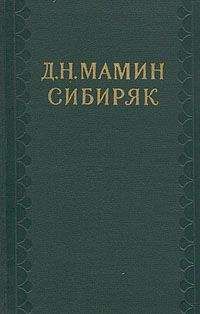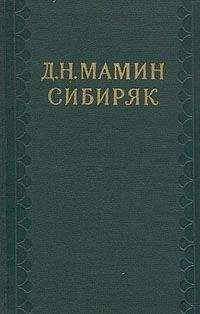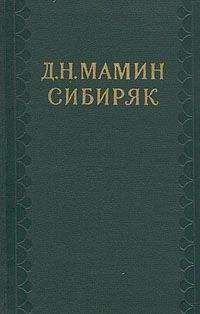— Нет, это невозможно.
— Ах, как я ненавижу эту Раису Павловну, если бы ты знал! Ведь она теперь мечтает… ха-ха!.. ни больше, ни меньше, как о том, чтобы выдать меня за Лаптева, а я разыгрываю пред ним наивную провинциалочку. Глупо, досадно и опять глупо…
— Погоди, мы все устроим, — ласковым шепотом проговорил Прейн, осторожно привлекая к себе девушку за талию. — У нас все будет, мы поживем в свою долю…
— Да, все это так… я не сомневаюсь. Но чем ты мне заплатишь вот за эту гнилую жизнь, какой я жила в этой яме до сих пор? Меня всегда будут мучить эти позорнейшие воспоминания о пережитых унижениях и нашей бедности. Ах, если бы ты только мог приблизительно представить себе, что я чувствую! Ничего нет и не может быть хуже бедности, которая сама есть величайший порок и источник всех других пороков. И этой бедностью я обязана была Раисе Павловне! Пусть же она хоть раз в жизни испытает прелести нищеты!
Прейн был почти у цели. Есть люди, которые родятся в сорочке, и к таким людям, конечно, принадлежал этот философ-бонвиван. Сердце Луши принадлежало ему безраздельно, и он распоряжался в нем, как неограниченный монарх, хотя этому владычеству и были приданы неуловимые формы. Прейн действовал с той ласковой настойчивостью и мягкой самоуверенностью, какие неотразимо действуют на женщин. Луша поверяла ему свои задушевные мысли и чувства, как лучшему другу, и сама удивлялась, что могла снизойти до таких нежностей. В ее глазах старый грешник являлся совершенством человеческой природы, каким-то чародеем, который читал у ней в душе и который пересоздал ее в несколько дней, открыв пред ее глазами новый волшебный мир. Что так старательно развивалось и подготовлялось Раисой Павловной в течение нескольких лет, Прейном было кончено разом: одним ударом Луша потеряла чувство действительности и жила в каком-то сказочном мире, — к которому обыденные понятия и мерки были совершенно неприложимы, а прошлое являлось каким-то жалким, нищенским отребьем, которое Луша сменяла на новое, роскошное платье. Все будет новое; по одному мановению руки Прейна вырастут из земли всевозможные чудеса, которые он положит к ее ногам. У Луши кружилась голова, и она ходила, как в тумане. Все то, что слышала она от отца и доктора о какой-то честной жизни, о новых людях, о заветных идеалах — все это не пустой ли бред, который на каждом шагу разбивается действительностью? Взять хоть того же отца, Раису Павловну, других — все говорят одно, а делают другое, обманывают сами себя и в конце концов портят себе жизнь. Прейн, по крайней мере, не притворяется, называет вещи их настоящими именами и обещает только то, что действительно в состоянии исполнить. Под влиянием Прейна Луша переродилась с такой же быстротой, с какой северные цветы в две-три недели из зеленой почки развертываются всеми своими красками в пышное растение.
— Как все это случилось — я сама не могу дать себе отчета, — говорила иногда в минуты раздумья Луша, ласкаясь к Прейну. — Ведь ты — старый, выдохшийся жуир, я тебя ненавидела и боялась сначала и теперь иногда ненавижу… Но меня что-то тянет к тебе, мне хорошо и легко в твоем присутствии, а когда ты уходишь, меня гложет тоска. Зачем? Почему? Ничего не знаю и ничего знать не хочу… Мне просто хорошо; хорошо теперь, вот сейчас, когда я смотрю на тебя и когда но думаю о будущем. Я недавно читала историю Мазепы. Этого старика тоже любила одна молоденькая хохлушечка, Матрена Кочубей. По-русски «Матрена» нехорошо звучит, а по-хохлацки русская Матрена превращается в Мотреньку… Мазепа был старше тебя, но гораздо лучше. Какие письма писал он своей Мотреньке! Ах, Прейн, я иногда сама не знаю, что говорю и что делаю. То мне хочется петь и танцевать, иногда плакать, иногда убежать, иногда умереть…
Луша хваталась за голову и начинала истерически хохотать. Сам все испытавший Прейн пугался такого разлива страсти, но его неудержимо тянули к Луше даже дикие вспышки гнева и нелепые капризы, разрешавшиеся припадками ревности или самым нежным настроением. Вдвоем они вволю смеялись над набобом, над генералом с его «болванкой», надо всеми остальными; но когда речь заходила о Раисе Павловне, Луша бледнела и точно вся уходила в себя: она ревновала Прейна со всем неистовством первой любви.
— Ты ее любил… да? — спрашивала Луша тысячу раз. — Не отпирайся, я знаю…
— О нет же, тысячу раз нет! — с спокойной улыбкой отвечал каждый раз Прейн. — Я знаю, что все так думают и говорят, но все жестоко ошибаются. Дело в том, что люди не могут себе представить близких отношений между мужчиной и женщиной иначе, как только в одной форме, а между тем я действительно и теперь люблю Раису Павловну как замечательно умную женщину, с совершенно особенным темпераментом. Мы с ней были даже на «ты», но между нами ничего не могло быть такого, в чем бы я мог упрекнуть себя…
— Ах, верю… и все-таки не могу поверить: это выше моих сил. В сущности, я не особенно забочусь о будущем, потому что знаю только одно, что я хочу быть всегда свободной… всегда!.. Даже тогда, когда ты обманешь меня. Ведь ты целую жизнь обманывал женщин, и одной больше — одной меньше для тебя ничего не значит. К чему все это говорю я тебе?.. Да… Какая я была глупая раньше, еще так недавно!.. Мечтала, что буду богатой-богатой, у меня будет своя коляска, бриллианты, поклонники, ложа в театре. А теперь… Мне все это надоело, прежде чем я испытала удовольствие обладания настоящим богатством. Ведь тебе ничего не стоит выбросить пятьдесят тысяч, чтобы устроить мне настоящее гнездышко… да? Конечно, я никогда не унижу себя… Ах, я так хорошо представляю себе свое будущее! Пройдет полгода, потом тебе надоест, и ты с своей обычной ловкостью постараешься сбыть меня какому-нибудь другому жуиру, чтобы сейчас же перейти к новому счастью.
— Луша! ты забываешь золотое правило: всякий человек имеет право быть глупым, но не следует злоупотреблять этим правом…
— Нет, уж позвольте, Альфред Иосифович… Я всегда жила больше в области фантазии, а теперь в особенности. Благодаря Раисе Павловне я знаю слишком много для моего возраста и поэтому не обманываю себя относительно будущего, а хочу только все видеть, все испытать, все пережить, но в большом размере, а не на гроши и копейки. Разве стоит жить так, как живут все другие?
Оставаться в своем флигельке для Луши теперь составляло адскую муку, которая увеличилась еще тем, что Виталий Кузьмич жестоко разрешил после поездки в горы и теперь почти не выходил из своей комнаты, где постоянно разговаривал вслух, кричал, хохотал и плакал. Луше делалось просто страшно, когда она оставалась одна с отцом; его постоянный крики смех болезненно раздражали ее напряженные нервы, и она по целым часам, против воли, прислушивалась к бессвязной болтовне отца, которая вертелась главным образом около текущих событий. Это была самая беспощадная философия отчаяния в лицах, пересыпанная меткими сравнениями, остроумными замечаниями и просто красными словечками. Конечным выводом этой философии получалось заключение, что все люди поголовно мерзавцы, только в разной степени, а так называемые порядочные и честные люди — или идиоты, или жертвы известных общественных законов. Везде зло, мелкие животные инстинкты и всеобщее непонимание; истинные союзники враждуют, враги идут под ручку, противоположности сходятся. Получается болезненно-яркая путаница всяких понятий об «истине, добре и красоте». Свои взгляды и убеждения Прозоров иллюстрировал, причем доставалось всем — и набобу, и Прейну, и генералу, и Тетюеву.
К довершению всех бед, под предлогом помощи Прозорову, в гнилой флигелек повадился ходить Яша Кормилицын, который испытывал мучительную жажду видеть Лушу хотя издали, что вполне объяснялось психологическими, антропологическими и социальными причинами.
Все в природе строго законно, и не пропадает напрасно самое малейшее движение, следовательно, и посещения Яшей Кормилицыным Прозоровского флигелька в общей экономии природы и в ряду социальных явлений должны были иметь высшее научное объяснение.
— Яшка! — кричал Прозоров, размахивая руками. — Зачем ты меня обманываешь? Но ты напрасно являешься волком в овечьей шкуре… Все, брат, потеряно для тебя, то есть потеряно в данном случае. Ха-ха! Но ты, братику, не унывай, поелику вся сия канитель есть только иллюзия! Мы, как дети, утешаемся карточными домиками, а природа нас хлоп да хлоп по носу.
Доктор садился в уголок, на груду пыльных книг, и, схватив обеими руками свою нечесаную, лохматую голову, просиживал в таком положении целые часы, пока Прозоров выкрикивал над ним свои сумасшедшие тирады, хохотал и бегал по комнате совсем сумасшедшим шагом.
Нина Леонтьевна поклялась, что столкновение ее с Прозоровым дорого обойдется Раисе Павловне. Официально она оставалась по-прежнему больна, но это не мешало ей заправлять и руководить всем заговором.