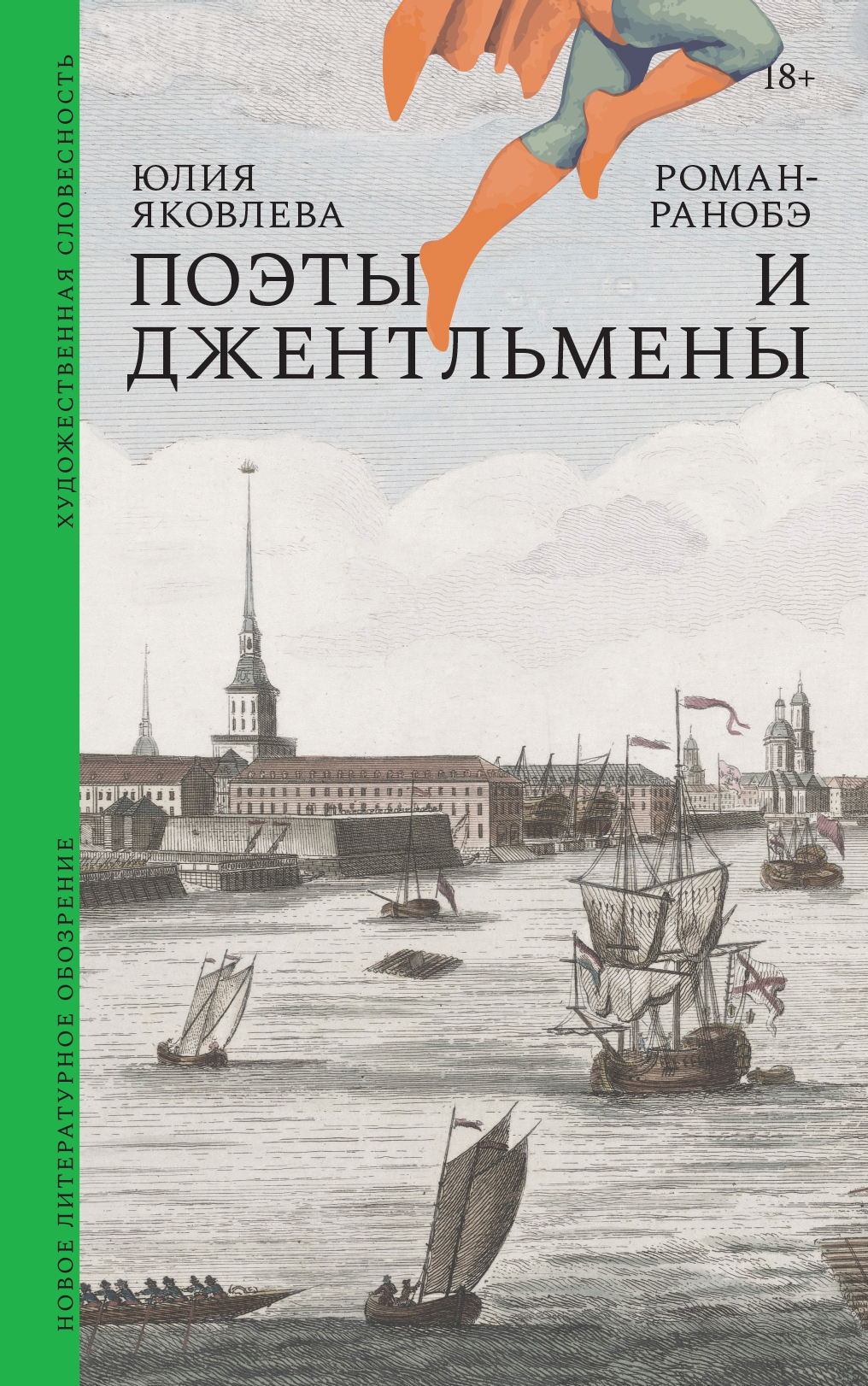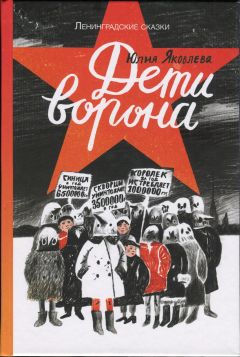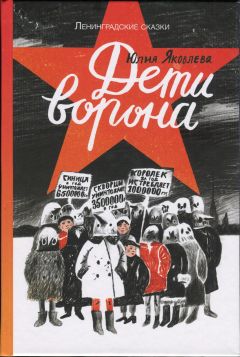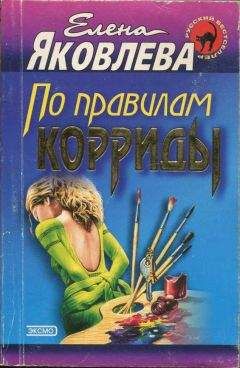стекло: «Солда… тушки… бравыребя… тушки!»
– А, мобилизованных ведут, – обыденно сказала Оленька.
Понятно куда. Конечно же, в Севастополь.
– Что? – Пушкин положил щипцы. Вскочил, уронил салфетку на стол, в соус. Припал лбом к стеклу. Лил дождь. Стекал с полей шляп, капал со спиц зонтов. Завивал гривы и хвосты лошадей. Мужики в толпе стащили шапки и картузы.
– Государь говорит, с нами Бог, – пояснила Оленька.
Пушкин снова откинулся на стул. Почувствовал, как голова его стремительно наливается африканским жаром. Все, все, что они сделали в Севастополе, не только не остановило бессмысленную бойню, но, напротив, поддало ей оборотов. Чудо под Севастополем только еще больше остервенило сердца. «Бог… с ним Бог», – он скрипнул зубами. И вот уже бредут покорные стада, нет, не стада, люди, люди…
– Господин Даль, вам дурно?
Пушкин посмотрел на Оленьку, покачал головой, не видя. Брови его сдвинулись. Мысль бешено работала, встраивая, смахивая воздушные мосты, замки, лабиринты, поднимая новые, рассыпая и их. Он уже был не здесь.
«Солда-тушки!» – тихонько дрожало стекло. Оленька привалилась к нему виском, по-видимому, думала сейчас то же, что и все там, на Невском.
– Тушки… – прошептала. – Тушки! – Как ужасно… Будущие мертвецы. Сейчас живы. А скоро умрут.
Пушкина кольнула тоска. Привычная жалость – ко всему слабому, невиноватому, любящему, обреченному – охватила его, вытеснила гнев. Но тут он увидел, что у Оленьки дрожат губы. Нахмурился:
– Только не хлопнитесь в обморок. Если держаться фактов, мы все – будущие мертвецы. Включая такую милую барышню, как вы. Кто-то раньше, кто-то позже.
Оленька прикусила губы. Отвернулась от окна. Рот ее открывался; видимо, она говорила что-то.
Пушкин думал о двух влюбленных. О людях, которых грузили сейчас в вагоны, чтобы везти на убой. Обо всех тех многих и многих, кто из-за этого не родится, не увидит света… Омар перед ним казался большим насекомым. Аппетит пропал. Пушкин отставил блюдо.
– Вот что, Оленька. Про то, что подводная лодка – это чушь собачья, молчите. И уж точно – больше ни к кому хлопотать и просить о вашем женихе не ходите.
Она слушала и энергично жевала. У нее аппетит ничуть не пропал. Проглотила. Нанизала следующий кусок и только тогда спросила:
– Почему? Я люблю Ванечку все равно – даже зная, что он у меня дурачок. Но он добрый дурачок. И он – мой дурачок.
Пушкин кивнул:
– Зато вы, Оленька, очень умная. Вашего ума хватит на двоих. А его любви – на вас обоих и еще кучу детей, внуков и правнуков.
Капал по подоконнику дождь. «Тушки! …тушки!» – теперь глухо уносилось в сторону вокзала. Взвод за взводом и штык за штыком. Пушкин почти видел, как они наполняют за вагоном вагон. Почти слышал, как веселый горнист заиграл сигнал к отправлению. Тучи висели черные. На блюде краснел раздавленный омар.
– Именно поэтому я вам помогу. Главное же – никому об этом нашем разговоре ни слова. Вы поняли? Поняли? – Он вздрогнул, почуяв, как кто-то стукнул его по плечу пальцем. Скосил глаза. На плече его сияла белая клякса, оброненная сверху какой-то мелкой пернатой сволочью.
– Да мать твою… так! Все оно, – дал волю всем разным чувствам он.
Оленька приподнялась, перегнулась через стол и своей салфеткой принялась оттирать сюртук.
– Это на счастье… – повторяла она. – Это на счастье.
***
Гоголь несколько раз обернул шею любимой радужной косынкой, которую женатым людям вяжет своими руками жена, а холостяки бог весть где берут. Оглядел себя от лаковых туфель до пуховой шляпы. Расправил бакенбарды и, таким образом закончив туалет, щелкнул замком. На щелчок, как кукушка из часов, тут же высунулся Чехов.
– А, – странным тоном сказал он.
– Кого вы ожидали увидеть? – заметил его разочарование Гоголь.
– Куда вы идете?
– Прогуляться по Невскому.
– Все работают… – проворчал Чехов.
– И я работаю! – перебил Гоголь. – На ходу мне лучше думается.
И пока Чехов не сказал еще что-нибудь обидное, такое, что потом весь день думаешь, как мог бы ловчее ответить, срезать, и так мог бы, и эдак, а по-всякому уж поздно, поздно, и ходишь весь день, и зарастаешь изнутри чертополохом – Гоголь схватил трость и хлопнул дверью.
– Но все же, кого он ожидал? – пробормотал сам себе.
Едва выйдя из парадной, он увидел, что с противоположной стороны улицы на него смотрит дама.
Сердце у Гоголя ухнуло. Лица ее он заметить не успел. Протарахтел извозчик, закрывая обзор. А когда проехал, унося на кожаных подушках задастого купца, дамы уже не было. Осталось только пакостное чувство.
Гоголь поднял края кашне к самым ушам. Надвинул шляпу. Идти на Невский с его безликой толчеей расхотелось – теперь сама мысль о том, чтобы соприкоснуться рукавом с другим человеческим существом или того пуще – дамой! – пугала.
Гоголь развернулся и пошел в сторону Синего моста.
Прохожих было немного. Все они по-петербургски держались друг от друга на таком почтительном расстоянии, будто подозревали проказу. Поэтому Гоголь сразу заметил даму.
Не ее, а лишь волнистое отражение в окне магазина. И оно настырно нагоняло его отражение.
Гоголь ускорил шаг. Обернуться было немыслимо. Всем своим слухом он слушал назад. Шелест платья тоже стал энергичнее – ноги пинали подол. В устье улицы уже виднелись строительные леса собора и дородная фигура городового на углу. Токотали под крики возниц экипажи. Привычный сор жизни делал ужасное невозможным. «Развернусь и потребую ответа: что ей угодно?» Но вместо этого прижал шляпу к голове – и рванул со всех ног. Справедливо рассчитывая, что дама за ним не побежит. Дамы – не бегают.
Городового обдуло ветром. Он увидел, как через площадь отчаянной рысью несется господин в радужном шарфе. По тому, как нервно он вскидывал колени, чувствовалось: бежит не на жизнь, а на смерть. Это было необычно, неприлично, и… Городовой задумался: было ли это незаконно? Выходил ли циркуляр, прямо и недвусмысленно запрещающий подданным империи бегать по улицам столицы? Но тут его обдало вторым порывом ветра, стремительным, душистым, но с привкусом угольного дыма. Приподняв юбки, сипя, пробежала дама. Перья на шляпе казались дымом, сносимым из трубы. Ридикюль хлопал по бедру. Локти работали с ровной силой, как боковые рычаги локомотива. Это было точно неприлично! Вне сомнений и циркуляров. Городовой затолкал в рот свисток и, надув щеки, стал стравлять воздух из просторных легких. Трель ввинтилась в воздух. Обернулись несколько мужиков. Скосила лиловый глаз лошадь. Оборвались с лесов собора вороны. Трель вышла такой длинной, что к ее концу бегущие достигли противоположного берега площади. Там начинался другой участок, поэтому городовой выплюнул свисток. И снова погрузился в буддийское оцепенение.
Так бывает в дурных снах. Ты бежишь, бежишь. Стучишь в двери – а их не отпирают. Барабанишь в окна – а там задергивают шторы. Все ворота на замке. Все лавки – выходные. Сердце Гоголя билось