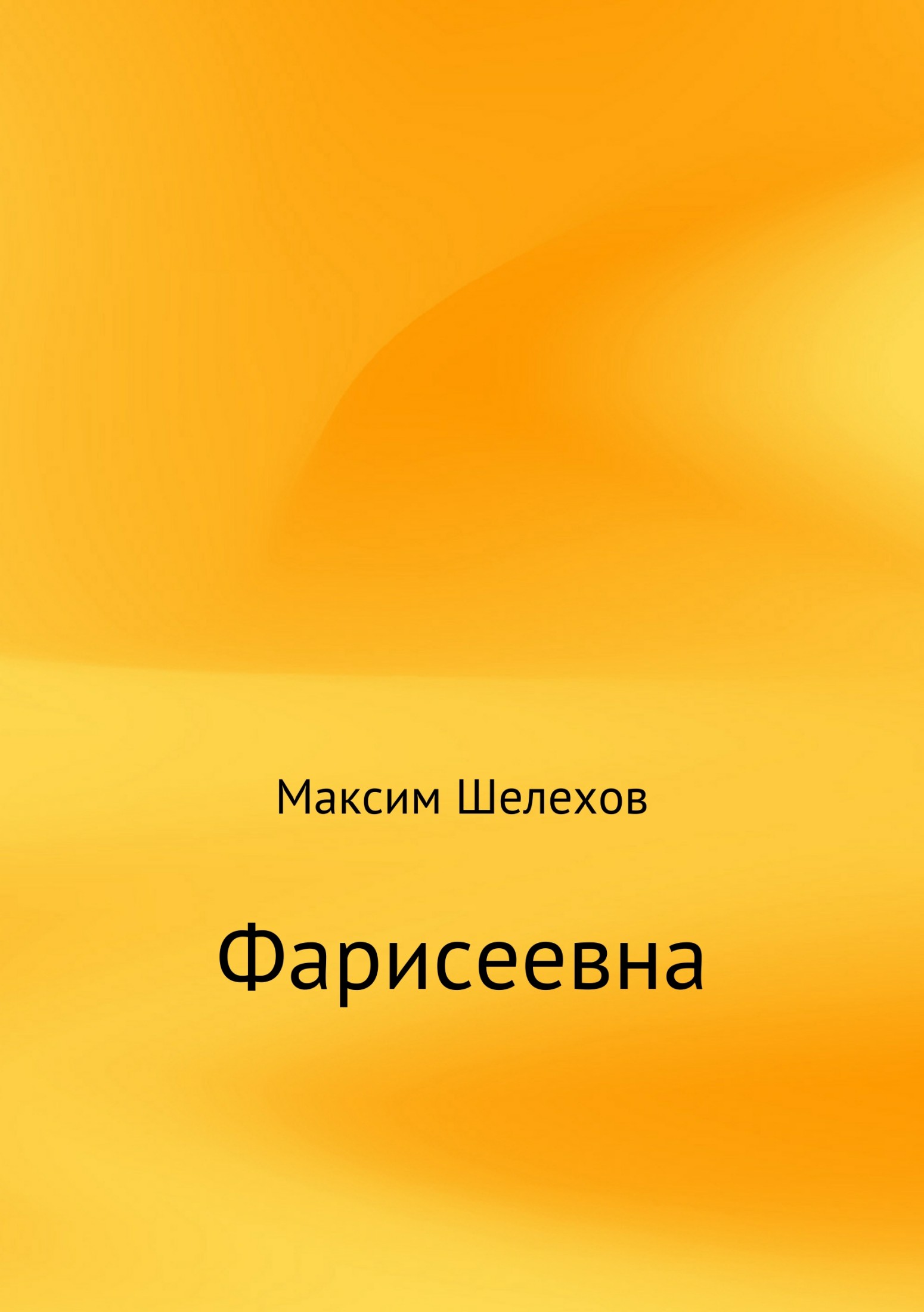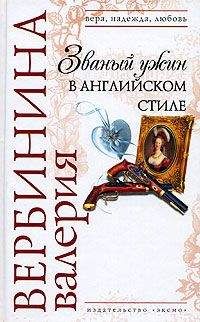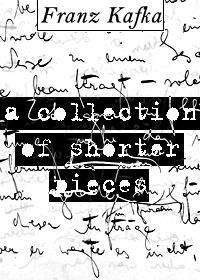какой мы с вами говорим справедливости? Тому же, к примеру, Наполеону, знаменитому честолюбцу, что с того, что он переродится червем? Ну выкопаю я его императорское величество, собираясь на рыбалку, ну насажу потом на крючок. Оно, положим, и червю мало в том будет приятного. Но, простите, за сотни тысяч загубленных душ…
Пока дух разводил всю эту демагогию, он снова заметить не успел, как провожатый его в новое место переместил. Заметить не успел, но, окончательно переместившись, перемену остро почувствовал. Как будто здесь, где он оказался теперь, другой был климат. Как будто чувства обнажились здесь у него, как будто все. Что-то такое вдруг в душе шевельнулось у него, отчего он прервал свою пустую болтовню, о том, что болтовня его пустая, сам, без подсказок, определив тут же. Он осматривается по сторонам.
–Где я? – спрашивает. – Как будто дома? А как будто и нет? – ищет взглядом провожатого своего, а того уже нет рядом. Он один стоит посреди улицы, по которой жил, по которой, стало быть, и живет. Все здесь вроде бы по-прежнему: вот дом Степана Никифоровича, вот Светловых, вон, дальше, крыша его собственного дома виднеется. Но что-то здесь не так все же, что-то как будто повисло в воздухе и как будто стоит. Сам воздух здесь как будто стоит. Дух подымает вверх голову. Облака не плывут. И сам он, замечает дух, что он сам не дышит…
Андрей Константинович замолчал на короткое время, провел рукой по волосам, сорвал лист с виноградника, что рос подле, скомкал лист в руке, бросил его наземь. Затем продолжил, грустно и задумчиво:
«Прошло время. Живет дух в своем доме один. Жены с ним нет, детей нет – они живы. Живет дух одиноко. Живется ему в одиночестве… живется ему, скажем мягко, несладко. Условия жизни, вроде, и домашние – неудобств, вроде, никаких: ни тебе топи зловонной, ни огня адского… Но вот, знаешь, огня ему как раз, может, и не достает, или какого другого увечья, чтобы хотя какой неприятностью, наружной, развлечь себя, удалить от совести, сосущей изнутри. Страшно совестлив здесь дух стал и впечатлителен, как ребенок, а с памятью его что твориться… – ужас! – вспомнил всю свою жизнь. Очень дух здесь и внешне переменился: черты лица его заострились, сам он осунулся, в движениях его прослеживается какая-то неуверенность и неловкость, точно он боится шагу ступить лишнего. На людях он появляется крайне редко, как, впрочем, большинство обывателей здешних мест. Здесь почти никто в глаза друг другу не смотрит, все глаза прячут, все стыдятся, как за себя, так и за ближнего своего. Здесь каждому о каждом все известно, о прошедшей жизни, все, до мельчайших подробностей».
–До мельчайших подробностей? – проявил необычайную озадаченность Пряников, с недавнего времени вдруг превратившийся весь во внимание.
–До наимельчайших, – подчеркнул Игнатов. – Здесь все видны друг другу насквозь, со всем багажом тамошнего нажитого. Но это не самое страшное.
–Не самое страшное? – каким-то плачущим голосом отозвался Дмитрий Сергеевич.
–Здесь каждый видит самого себя насквозь, также как другого, что в совокупности с обнаженной совестью, чистой, как кристалл, неподкупной, не идущей в сговор и ни на какие уступки, дает самый неожиданный результат: здесь нет места осуждению, кого бы то ни было, кроме себя. Здесь никто не способен обнаружить в себе право на совет; все та же совесть здесь мешает состояться оправданию. Здесь каждый судит себя самого и тем справедливым судом, какому нет примера на том, то есть на этом, нашем, Мить, свете… – Игнатов неожиданно и окончательно замолчал. Однако его другу не терпелось еще что-то от него услышать.
–А дальше?..
–Дальше?
–Когда искупятся все грехи, за которые человек осудил себя? – очень неуверенно, как будто стесняясь, поинтересовался Пряников. Андрей Константинович пожал плечами.
–Дальше я не фантазировал, – с добродушной улыбкой ответил он.
Сумрак потихоньку рассеивался. Где-то там, далеко за горизонтом, уже новый день вступал в силу. Здесь, та крупица Земли, на которой разместилось местечко Кузино, только готовилась встретиться с солнцем, но уже сейчас в воздухе пахло чем-то торжественным. Предвестниками нового дня выступали и птицы. Дмитрий Сергеевич мало знал и понимал природу, но пробуждение пернатых сейчас отозвалось в нем каким-то сладостно-трепетным чувством. Мелкая дрожь пробежала по его телу и слезы выступили на его глазах. Он сам не мог понять хорошенько, что с ним делается. «Что-то нервическое», – думал он про себя и по-настоящему плакал в то самое время.
–Извини, – сказал он Андрею Константиновичу: ему вдруг потребовалось извиниться. «В таком настроении, наверное, сходят с ума или кончают жизнь самоубийством», – думал он. Андрей Константинович следил за Пряниковым с тревожным изумлением. А у того как будто зациклилось и беспрестанно срывалось с губ: «извини, извини…»
–За что ты извиняешься, что с тобой, Митя? – уже по-настоящему испугался Игнатов. А Дмитрий Сергеевич только улыбался ему в ответ и поводил плечами, давая тем понять, что сам не знает, что с ним происходит; слезы текли из его глаз и он все говорил: «извини»…
Они долго прощались у калитки. Андрей Константинович не хотел отпускать своего друга «одного в таком расстроенном состоянии», предлагал ему остаться, правда, делал то без особого энтузиазма в голосе. Пряников и сам понимал, что будет слишком большой помехою он сейчас этому семейству, каждому члену которого придется заново привыкать друг к другу, и спешил удалиться.
–Не беспокойся, теперь я в порядке, а то… то было что-то нервическое, – говорил он.
****
Антонина Анатольевна не сомкнула глаз этой ночью. Она долго просидела у кровати дочери, гладя материнской рукою по милой ее головке и жалея ее, и жалея себя, и виня себя. Тяжело было у нее на сердце. Потом она все же предприняла попытку заснуть. Но за окнами ее с мужем спальни происходил разговор, и интересовавший ее, и который она не хотела слышать. Пряников, там, за окнами, советовал своему другу не вздумать извиняться перед своей женой, вести себя, как ни в чем не бывало. Антонина Анатольевна почему-то в этом месте вспомнила слова Маргариты Олеговны, советовавшей ей не замыкаться в себе, не молчать, произвести скандал при первом удобном случае, что обязательно должно было, по ее мнению, пойти на пользу. Антонине Анатольевне вдруг стало тошно, почти физически. Она прошла на кухню, выпить воды. За стеной, в ванной комнате, слышались жалостные стоны.
–Данечка, это ты? Ты отравился, сынок, тебе плохо? – предварительно и осторожно постучавшись, спросила она.
–Мамочка, прошу