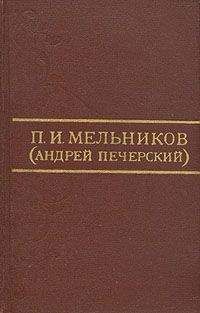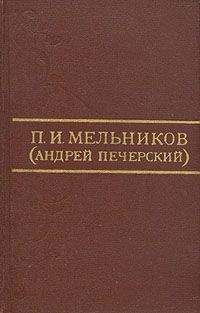— Здорово, Семенушка!.. Давно не видались!.. Что?.. Не признал?.. — весело обратился к саратовцу Василий Борисыч.
— Аль допрежде были знакомы? — спросила Манефа.
— Еще бы, — ответил Василий Борисыч и, обратясь к саратовцу, молвил: — Все еще не можешь признать?.. А кого ты из воды-то вытащил, как я на салазках с горы в прорубь попал?..
— Васенька!.. Да неужли это ты?.. Ах ты, господи! — вскликнул саратовец.
И друзья детства горячо обнялись и поцеловали друг друга. И отошли к сторонке и стали расспрашивать друг друга про житейские обстоятельства.
— Ну вот и знакомство сыскали, — слегка улыбнувшись, молвила Самоквасову Манефа.
И, наклонясь к нему, вполголоса, указывая взором на Василья Борисыча, промолвила:
— Золото человек, опора древлему благочестию, первый начетчик, рогожский посланник по всем городам.
— Слыхал про него, сказал Самоквасов. — Тот, что в Белу Криницу за миром ездил?
— Он самый, — подтвердила Манефа. И, быстро обратясь к уставщице: — Вот что, мать Аркадия, — сказала она, — после чаю надобно два канона исправить. Собор — не будем служить. Прикажи клепать в великое древо и в малое… пущай Катерина и в клепало ударит, вся бы обитель в собранье была… Сбирай оба клироса, Марьюшка, петь по статиям, на катавасиях[154] середь часовни обоим клиросам сходиться… Мать Аркадия, во всех бы паникадилах свечи горели. Меду у Виринеи на свежий канун спроси[155].
— Слушаю, матушка, — молвила уставщица и, положив три поклона перед иконами, степенно вышла из кельи. За ней пошла и головщица.
***
Когда в Манефиной часовне отпели соборную службу по новопреставленном рабе божием Михаиле и затем нерасходно зачали другой канон за девицу Евдокию, Петр Степаныч Самоквасов не счел нужным молиться за упокой неведомой ему девицы и, заметив, что Фленушки нигде не видно, вздумал иным делом на досуге заняться… Сойдя с паперти, он остановился, окидывая глазами давно знакомые обительские строенья. И видит, что в одном окошечке игуменьиной стаи кто-то махнул беленьким платочком. Вгляделся — Фленушка. Неспешным шагом пошел он на зов.
— Что ты, бесстыжий? Отчего запропастился?.. Ждали на Троицу, приехал к Петрову!.. Непуть ты этакой!..
Такими словами встретила Фленушка своего казанца, когда тот вошел в ее горницу.
— Нельзя было, Флена Васильевна, — оправдывался Самоквасов. — Дедушка скончался, никак нельзя было раньше приехать.
— Нельзя, нельзя! — передразнила его Фленушка. — Бить-то тебя некому!.. Женись-ка вот на мне, так я тебе волосы-то повыдергаю да и глаза-то бесстыжие исцарапаю… Женись в самом деле, Петинька!.. — шаловливо прибавила она нежным голосом. — Уж я ли б над тобой не потешилась!
— Ты все по-прежнему, — с горьким упреком промолвил Самоквасов. — Право, не знаешь, с какой стороны и подступиться к тебе… И к себе тянешь и тотчас остуду даешь! Не поймешь тебя, Фленушка!.. Который год этак с тобой валандаемся?
— А тебе бы так: облюбовал девку, да и тащи к попу?.. Нет, брат, не на таковску попал… Не такова уродилась я, — звонко захохотала Фленушка.
— По-твоему, хорошо этак томить человека?.. Водишь ты меня третий год… Сама рассуди, хорошо ль это делаешь?.. — страстно дрожащим голосом проговорил Самоквасов.
— Да чего тебе от меня надобно? — смеясь и лукаво щуря глаза, спросила Фленушка.
— Сама знаешь чего!.. Не впервой говорить!.. — молящим голосом сказал Самоквасов. — Иссушила ты меня, Фленушка!.. Жизни стал не рад!.. Чего тебе еще?.. Теперь же и колода у меня свалилась — прадед покончился, — теперь у меня свой капитал; из дядиных рук больше не буду смотреть… Согласись же, Фленушка!.. Дорогая моя!.. Ненаглядное мое солнышко!..
Так говорил Самоквасов, ловя руку Фленушки. А она, быстро отдернув ее, строго и внушительно сказала Петру Степанычу:
— Некогда мне теперь с тобой толковать — много надо говорить, а матушка того и гляди придет из часовни… Вечером там будь!.. Знаешь?.. Саратовца приводи… Марьюшка, молви ему, тоже придет.
И, взглянув в окно, увидала, что с высокой часовенной паперти медленно спускается Манефа, а за ней идут матери и белицы, Василий Борисыч и саратовский приказчик. Быстро повернулась Фленушка к Самоквасову и крикнула:
— Убирайся скорей до греха.
— Поцелуй прежде, — молвил он, обнимая Фленушку.
— Я те поцелую ладонью в ухо!.. — вскрикнула она, вывертываясь. — Ишь какой лакомый!.. Убирайся, говорят тебе!.. Матушка идет. И вытолкнула друга милого в шею из своей горницы.
***
Матери с белицами по своим местам разошлись, саратовца Василий Борисыч в свою светлицу увел. В келью с Манефой Аркадия да мать Таисея вошли.
— С просьбой до тебя я, матушка, с докукой моей великою!.. — умильно, покорно, чуть не со слезами начала мать Таисея.
— Рада служить, чем могу, — ласково, но сдержанно ответила Манефа. — Что в моей мочи, всем тебе, матушка, готова служить.
— Самоквасовы да Панковы исстари благодетели нашей обители, — продолжала Таисея. — И молодцы ихние ко мне завсегда въезжают, завсегда у меня гостят… Сама знаю, матушка, что им хоть бы вот у тебя и лучше бы было и спокойнее, да уж ихние старики, дай им господи доброго здравия и души спасения, по своему милосердию к нашему убожеству, велят им у меня останавливаться. Все-таки, матушка, перепадает кое-что на бедность на нашу… Теперича, матушка, оба эти благодетеля, Самоквасов Тимофей Гордеич и Панков Ермолай Васильич, ровно сговорились, читалок на «годовую» просят по ихним покойникам.
— Знаю, — ответила Манефа, — и мне про то они отписывают… Что ж?.. Слава богу. Рада за тебя, мать Таисея. Сотенки четыре, не то и вся полтысяча перепадет, люди они богатые.
— Да вот беда-то моя, матушка, послать-то некого, — жалобно продолжала мать Таисея. — В Саратов еще можно Оленушку справить, в Хвалынске она у Седовых дочитывает… Недели через полторы опростается и сплывет к Ермолаю Васильичу. А в Казань-то некого, да и полно. И оченно опасаюсь я, матушка, не прогневать бы мне Тимофея Гордеича, остуды бы от старинного благодетеля не принять…
Сама знаешь, какой привередливый он да уросливый[156]. Пожалуй, еще вскинет на ум, что не хотела угодить ему, не постаралась просьбы его выполнить… Помоги Христа ради, матушка, пособи в великом горе моем, заставь за себя вечно бога молить…
Сама рассуди, каково будет мне остудить такого христолюбца… Надо правду говорить, не твои бы, во-первых, милости да не самоквасовские, нашей бы обители пропадом пропадать. Вами, матушка, вашими благодеяниями только и держимся.
— Как же помочь-то тебе? — молвила Манефа. — Нешто свою девицу при твоем письме в Казань послать?
— Яви божескую милость, матушка, заставь за себя вечно бога молить, — встав с лавки и низко кланяясь, сказала Таисея.
— Да ты не кланяйся, дело соседское, — молвила Манефа. — Опять же твоя обитель с нашей, сколько ни помню, всегда заодно, всегда мы с тобой в любви да в совете… Как тебе не помочь?.. Только не знаю, послать-то кого.
— Мало ль девиц у тебя, матушка?.. — возразила Таисея.
— Мало ль их у меня; да какую можно в Казань послать, таких-то нет, — сказала Манефа. — Ведь это не в Баки аль не в Урень[157] к сиволапым мужикам читалку отправить. Самоквасовы люди видные. Опять же в большом городу живут, чуть ли не первые купцы по Казани… Захотели бы простенькую канонницу взять, с Татарского мосту из Коровинской[158] взяли бы. Надо послать к ним умелую, чтобы в грязь лицом не ударила, не осрамила бы нашего Керженца… А таких теперь нет у меня ни единой… Какие были — все разосланы.
— Да хоть не больно бы мудрящую, — жалобно молила Таисея.
— Нельзя, матушка, — перебила Манефа. — Никак нельзя плохую послать к Самоквасовым. Девиц у меня теперь хоть и много, да ихнее дело гряды копать да воду носить. Таких нельзя к Самоквасовым.
— Ах ты, господи, господи! — пуще прежнего горевала Таисея. — Что тут делать?.. Матушка!.. Подумай — ведь это чуть не четвертая доля всего нашего доходу!.. Надо будет совсем разориться!.. Помилуй ты нас, матушка, помилосердуй ради царя небесного… Как бог, так и ты.
И с этими словами игуменья славной в старые годы княжеской обители повалилась со слезами в ноги Манефе Чапуриной.
— Встань, матушка, встань, — строго и внушительно молвила ей Манефа. — Не пригожее дело затеяла… Мы с тобой во едином чину… Как же тебе великим обычаем мне поклоняться?.. Преданию противно, мать Таисея.
— Не я поклоняюсь, нужда кланяется, — поднимаясь, сказала в слезах мать Таисея. — Пособи ты мне… Ради царя небесного пособи беде нашей, матушка!..
— Сядь, спокойся. Дай срок, подумаю, — молвила Манефа.