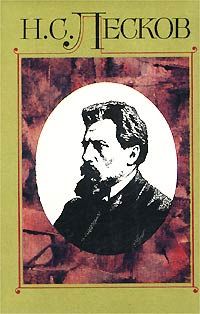Дуня протянула руку и приложила ладонь к Яшиному лбу: он был холоден.
- Ты здоров?
- Здоров.
Никогда еще они не говорили так, ни разу в жизни.
Прикосновение теплой, легкой девичьей руки вызвало в Яше внезапную и небывалую нежность. И Дуне тоже стало вдруг радостно и хорошо, точно к сиротливой, одинокой душе ее приблизилась другая душа, такая же одинокая и сиротливая, требующая себе отклика.
- Яша...
- Дуня...
Оба они сказали это вместе; они шепотом назвали друг друга по имени, и оба почувствовали, что это ценнее и ближе, чем все их утренние поцелуи за всю их жизнь.
- Войди, Яша, - сказала Дуня, распахивая дверь и снова запирая ее на крючок. - Садись вот здесь, - указала она на стул. - Что с тобой? Говори.
Яша был рад, что в комнате не было огня, кроме лампадки, горевшей в красном стакане перед большой иконой с темным ликом и темными, скрещенными на груди ладонями. Он рад был этому бледному, мягкому свету, этому прозрачному розовому полумраку; ему не хотелось показывать сестре своих глаз, на которые готовы были каждый миг навернуться слезы, и он тихим, прерывающимся шепотом начал рассказывать ей про знакомство с Вороновым, про свое желание умереть за царя и за правду, про сегодняшнее собрание, на которое он шел с трепетом и радостью, но ушел с него смущенный, и, наконец, про встречу с Федором и про свои сомнения.
- Мне надо знать, где правда. Мне непременно надо знать правду.
- Какую правду? - тихо и внимательно спросила Дуня.
Они все время разговаривали шепотом, потому что вокруг все спали, и оба они боялись, чтобы кто-нибудь не проснулся и не подслушал их.
- Я не знаю, где правда и какая она, - говорила Дуня, в первый раз в жизни исповедуя свои думы и свои мечты. - Я знаю одно: все мы несчастны. Все несчастны, которые здесь живем. Не потому, Яша, что дедушка с бабушкой и папаша люди дурные, - не потому. Они люди вовсе не дурные. Может быть, мы с тобой хуже их. Они хорошие, но - по-своему. Они честные и добрые... очень честные... но посвоему... Их не переделаешь. Но мы-то? Я-то сама? Я задыхаюсь здесь. Понимаешь, задыхаюсь. Точно меня зарыли в могилу... точно я для них какой-то щенок или котенок, или... я уж не знаю сама - что я для них. А ведь они меня любят, - я знаю, - желают мне счастья... Но беда в том, что ихнее счастье для меня все равно что для птицы клетка, для живого человека - тюрьма!.. Видишь, какая я нехорошая, неблагодарная...
Она вздохнула и, сложив на коленях руки, опустила голову. Яша молчал: все в эту ночь было для него загадкой и тайной.
- Ты видал ли, Яша, чтобы я улыбалась? Видал ли, чтоб я радовалась чему-нибудь, открывала бы душу? Ты не видал этого? Да и не знал, вероятно, что все это бывает иногда нужно человеку... очень нужно!
Растерянно и изумленно Яша зашептал в ответ искренне, от всего сердца:
- Нешто тебе чего не хватает, Дуня? Ты скажи мне... Я тебе все достану. Только скажи мне, Дуня. Я все достану.
- Свободы мне надо, Яша! - просто и тихо шепнула в ответ ему сестра и в первый раз улыбнулась - горько и ласково. - Свободы! Только свободы, а остальное все неважно, да и все будет; все будет, чего захочу, была бы свобода, Яша!
- Знаешь, что? - вдруг сказала она таинственно и сделалась строгой. Поклянись мне, что никогда и никому не скажешь ни единого слова, пока сама не позволю.
Она указала на образ:
- Клянешься молчать? Я поверю.
Глядя друг другу в глаза, они молчали, словно испытывая один другого.
- Ну?
- Поверь. Я буду молчать.
- Поклянись, Яша.
Яша встал и перекрестился на образ.
- Вот, ей-богу, не скажу никому, - прошептал он, волнуясь. - Ей богу, никому и никогда не скажу!
Дуня еще колебалась, но уже глядела с доверием на брата. Тайна мучила ее самое. Тайну эту хотелось сказать, но тайна была велика и свята.
- Яша, - тихо сказала она, - взгляни на стол: вот моя тайна.
Яша посмотрел на стол, но ничего особенного не заметил: возле погашенной лампы лежала стопка книг и исписанные страницы бумаги.
- Не пойму, Дуня, - ответил он искренне.
- Ты знаешь меня только, какая я днем и вечером у вас там, внизу; а какая я здесь, у себя, сама с собой - ты не знаешь!.. Что у меня в душе, что у меня в мыслях, что в моем сердце - ты знаешь?
- Откуда ж мне знать? Ты - девушка... у вас свои мысли, свои дела; а у нас, у мальчиков, свои. Ты тоже вот не знаешь, какую я теперь муку переживаю с этой историей. И никогда не поймешь. Я и сам тоже понимать начинаю только, когда я вот здесь... один, ночью... у себя, наверху.
Ну-ну, рассказывай свою тайну.
- Какая я там, внизу? - повторила Дуня. - Я вяжу, шью, разливаю чай, запираю чуланы. А вот, Яша, приходит ночь - и я совсем другая. Вы все ложитесь спать, а я запираю эту дверь и сажусь за этот стол.
Она затаила дыхание.
- Я учусь, - выговорила она с благоговением.
- Чему? - со страхом прошептал Яша.
- Учусь! - повторила Дуня и вся засияла от улыбки, от радости, от высказанной, наконец, тайны. - Я, как пленница, Яша, каждую ночь подкапываю свою тюрьму. Каждую ночь я приближаюсь к цели. И настанет день, когда я вырвусь отсюда и уйду, куда захочу.
- Куда?
- Не знаю. На волю!
- Как не знаешь?
- Я сейчас подкапываюсь, как вор, и учусь, как вор, чтоб никто не знал, но если я уйду отсюда, то, знай, уйду, как царица!
Яша, не понимая ее, глядел на разгоревшиеся ее глаза, на вспыхнувшие щеки и старался разгадать эту новую для него тайну.
- Замуж я не пойду, Яша, - заговорила спокойно и строго Дуня. - Не пойду за ваших хороших женихов - и знаешь, почему? Не по пути мне с ними. Не хочу я ни себе, ни другому несчастия - вот почему. Я убегу от вас; только не теперь; сейчас рано, я не готова. А вот подготовлюсь, и тогда прощай, Яша!
- Что ты говоришь мне... ушам своим не верю.
- Не бойся: я буду счастлива. У меня характер твердый, спасибо за него нашим предкам. Я - мужичка; мне многого не надо. Я все стерплю; я не изнежилась; мне только свободы нужно, Яша, только свободы, а остальное все сама достану... Сама! Никого не попрошу об этом. Сама!
- Не могу я понять, чего ты хочешь; куда ты нацелилась.
- Одна дорога. Если б нас с тобой учили, как других, если б я имела диплом, тогда мне все пути открыты. А теперь... что я могу?
- Ах, Дуня...
- Я должна сдать экзамен. Это не очень трудно. Ты помнишь Сахарову, батюшкину дочь на даче? Помнишь?
Вот она сдала экзамен и стала сельской учительницей...
Яша! подумай, быть учительницей в деревне - да что же еще человеку нужно? Это такое счастье!.. Это такая жизнь!..
А Яше, под слова сестры, вспоминались только что слышанные злые наветы на ученых, на учащихся, на молодежь, и сердце его начинала сосать невидимая змея. Он в ужасе и в восторге глядел на сестру, которая казалась ему сейчас ангелом, и думал: "Ведь и Дуню могут убить..."
А она рассказывала ему о своих мечтах и надеждах, о своем будущем счастье...
И долго еще раздавался в этой низенькой комнате среди общей тишины дружный шепот впервые нашедших друг друга сестры и брата. А в соседней комнате мерно всхрапывала их старая нянька, жившая на покое, которой грезились старые страхи, старые радости, и молодая жизнь мчалась мимо нее своими краткими путями к своим целям, к своим радостям...
VII
Настала суббота, о которой говорил Федору Яша.
В этот день вся Линия имела необычайный, праздничный вид. Еще с вечера на двух лошадях привез мужик из деревни зеленых можжевеловых веток и свалил в кучу. Теперь эту кучу разбирал рядской сторож Терентьич; мелкие ветки он разбрасывал по дороге, будто устилая ее зеленым пахучим ковром, а крупными ветвями украшал каждую лавку, засовывая их за петли, за гвозди и за решетки и привязывая к окнам, дверям и к вывескам.
К десяти часам все было готово.
Среди Линии возвышались пустые ящики, подпертые тяжелыми кипами товаров, и все это было покрыто красным сукном и приготовлено для того, чтобы поставить сюда тяжелые огромные иконы, которые ожидались ровно в одиннадцать.
Перед ящиками поверх зелени постелили ковер, покрыли чистой скатертью столик, поставили на него миску с водой, принесли из церкви большие стоячие подсвечники с золочеными длинными свечами и на блюдце насыпали ладану - для кадила.
Старостой ежегодно избирали дедушку, и теперь в его лавке сидел соборный дьякон в ожидании молебна и держал на коленях узел, где был завернут его золоченый стихарь. Тут же сидел певческий регент, вертя в руках камертон, а Федор скромно удалился на свое любимое место за большим распятием и грустно молчал. Чувствуя себя знаменитостью, дьякон небрежно дымил папиросой, не обращая никакого внимания на захудалого попа, и беседовал с дедушкой о торговых делах.
- Едут! Едут! - закричал вдруг мальчик, вбегая в лавку и взмахивая руками. - Иверскую везут!
Не надевая шапок, все вышли из магазина, а регент бросился бегом к своему хору, стоявшему позади ящиков, приготовленных для икон. Все двадцать человек певчих повернули к нему головы и глядели в его глаза: это были подростки и дети, одетые в одинаковые длинные пальто с низко опущенными широкими карманами; были среди них и мужчины, молодые и старые, все без шапок, но с теплыми шарфами на шеях. Регент поднял два пальца, сложенные кольцом, пропел тихонько: "о-о!.. о-о!..", потом махнул рукою и вся Линия вдруг огласилась дружным приветственным пением.