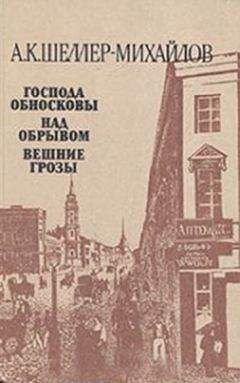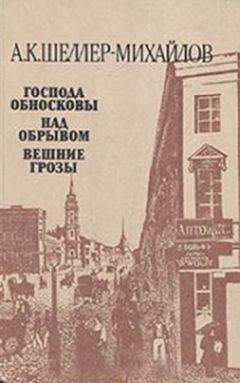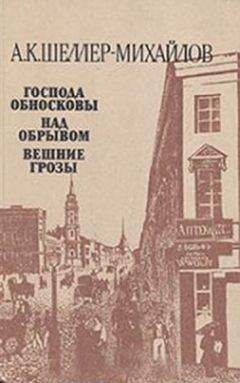— Ох, солнышко наше. Дай ты нам выплакать свое горе… Родной наш, защити нас, на тебя только и надежда, — снова заговорили тетки, и младшая, Вера Александровна, склонная к сентиментальности и влюблявшаяся во всех, начиная с церковного певчего-тенора, даже припала к плечу племянника.
Этот ли смутный шепот достиг до ушей больного или просто больной почувствовал, что его сестры недаром остаются целый час в другой комнате, но ему захотелось узнать причину их необычайного отсутствия. Дверь в ту комнату, где собрались нежные родственники, отворилась, и на пороге появился юноша. Обносков с невольным любопытством обернулся к нему и, нахмурив брови и сощурив свои и без того узкие, калмыцкие глаза, стал пристально и бесцеремонно рассматривать незнакомого ему юношу, о котором до него долетали тысячи самых разнообразных слухов.
Только на семнадцатом году жизни может человек сверкать такою ослепительною, нежною свежестью, таким добродушием и такою откровенностью, каким сверкало лицо этого стоявшего на пороге комнаты мальчика. Здоровые, облитые теплым румянцем от недавнего сна щеки с едва заметным пушком; откинутые назад без всякой претензии на эффект и потому еще более эффектные, густые, вьющиеся волосы; большие глаза, честно, смело и откровенно смотревшие на людей, — все это вместе должно было производить на каждого такое впечатление, что невольно хотелось пожать с любовью, с доброй улыбкой молодую руку этого гостя на жизненном пути и сказать ему: «Храни тебя бог, милое дитя!»
— Скажите… — начал он, поглядывая с порога на Обноскова как-то нерешительно, точно боясь ошибиться. — Скажите… Кажется, вы господин Обносков? — кончил он в замешательстве неловко начатую фразу и покраснел еще более.
— Дядюшка проснулся? — холодно спросил Обносков, не отвечая на вопрос «смазливого мальчишки». Это название Обносков уже дал в своем уме юноше.
— Да… Он давно не спит… — проговорил юноша и с каким-то недоумением осмотрел своими большими глазами группу родственниц, точно стараясь понять, что они успели наговорить на него новоприбывшему гостю.
— Я пойду туда, — проговорил Обносков, обращаясь к теткам и матери.
— Иди, иди, Леня, и мы все идем, — заговорили, перебивая друг друга, женщины. — Как твой дядя рад будет!.. Никого-то около него нет из близких… Мы что? мы женщины! С нами ему скучно… Не с кем умного слова сказать, по душе побеседовать.
Тетки говорили эти фразы с такими ударениями на словах и бросали такие злобные и многозначительные взгляды на юношу, что его можно было счесть главным виновником всех несчастий их брата и их самих. Юноша же все еще стоял на пороге, точно он окаменел, созерцая головы этих медуз.
— Позвольте же пройти! — раздражительно проговорил Обносков, слегка отстраняя юношу, стоявшего в дверях.
— Вот так-то всегда, — зашептали тетки племяннику. — Это уж тебе дороги не дает, польское отродье, а нами-то просто помыкает, помыкает… Ох, господи, до чего мы дожили!
Юноша, прислонившись к открытой половинке дверей, задумчиво смотрел вслед за удалившимися родственниками. Каждая черта его лица дышала теперь невыразимою грустью и только в закушенной нижней губе слегка были заметны следы строптивого, но сдержанного гнева. По одной этой черте можно было угадать, что у этого человека есть уже выработанный характер.
— Батюшка-барин, отдохнули ли вы? — послышался около него дребезжащий голос.
Он обернулся и увидал старое, потемневшее, сморщенное, как печеное яблоко, лицо хозяйского камердинера.
— Спасибо, Матвей Ильич, отдохнул, — ответил юноша, и его лицо вдруг прояснилось, снова стало откровенным и добродушным.
— Умаялись вы, ходя за папенькой! — говорил старик.
— Тс! Не говорите, Матвей Ильич, этого слова, — прошептал, делая знак рукою, юноша. — Знаете, они не любят, когда кто-нибудь назовет его моим отцом. Вам же неприятностей наделают… Это низкие, низкие женщины! — вдруг быстро проговорил мальчик, и по его лицу скользнуло, как молния, выражение не то презрения, не то ненависти.
— У-у! Про-кля-тые! — прошептал старик. — Ну, да недолго теперь поцарствуют! И я ведь терплю теперь потому, что барина жаль оставить, а то я ведь теперь вольный… Его-то жаль. Вот теперь вы сами видите, батюшка Петр Евграфович, что у нас в доме за жизнь шла. Целый-то век вашего папеньки заели эти аспиды, кровь из него высасывали. Чуть, бывало, шутя он заикнется о женитьбе, они и начнут его в три голоса пилить. Пилят, пилят, умается он, сердечный, и махнет рукой. А все оттого, что слаб он, сумнителен был, десять раз всякое дело, бывало, отмеряет, а ни одного не отрежет… И ведь сколько пытались узнать они, где ваша маменька живет, ведь верно извести ее хотели, от них всего станет… Да нет, только я и знал ваш домик; ну, а из меня хоть бы жилы тянуть стали — не выдал бы вас…
Юноша задумчиво слушал болтовню старика, бесцельно возившегося над стиранием пыли и приведением в порядок мебели. В последний месяц, когда. мальчику пришлось поселиться в доме отца, Матвей Ильич не раз повторял эти речи.
— И, господи, ведь беда-то какая приключилася, что маменька ваша в Аршаве; не может в Петербург приехать. А уж как бы нужно-то ей теперь здесь быть, ох, как нужно!.. Вот, батюшка, никогда не давайте никому себе на шею насесть, как папенька ваш позволили сестрицам себя оседлать. И вас заездят, и другим плохо будет.
Юноша улыбнулся и ласково взглянул на старика.
— Спасибо, Матвей Ильич, за совет, — промолвил он. — За что только вы меня так любите?
— За что? — переспросил, останавливаясь с тряпкой в руке, старик. — Да ведь вы и родились-то чуть не при мне. Помните, папенька вашей маменьке либо письмо, либо деньги со мной пошлет, бывало, а я вам от себя пряников куплю, да и потешаюсь, как вы лакомитесь?
Юноша засмеялся. Старик, по-видимому, понял причину этого смеха и шутливо махнул рукой.
— Вспомнили, видно, как я вас своими пряниками чуть на тот свет не отправил, — проговорил он. — Ну, глуп был, своих детей не имел, не знал, что и от пряников захворать можно… А уж натерпелся же я страху тогда. Рубль на свечи целителю Пантелеймону истратил…
Старик в тысячный раз стал распространяться об этом замечательном событии из своей одинокой бесцветной жизни барского преданного лакея. Этот сгорбленный, говорливый, переживший и горе, и радость старик, поспешно ловящий немногие остающиеся ему в жизни мгновенья, чтобы еще раз хотя в воспоминаниях пережить свое прошлое, и этот неопытный, задумчивый юноша, внимательно прислушивающийся к отголоскам чужого существования, еще с боязнью стоящий на пороге жизни, — эти два существа, связанные вместе взаимною любовью, составляли поэтический и трогательный контраст.
— Пошли бы вы, батюшка, к папеньке, — заговорил снова старик, прибирая в комнате. — Не ровен час наши-то аспиды, пожалуй, еще насплетничают что-нибудь… Вот ведь и наследник приехал!.. Наследник!.. Дохлый, право, дохлый… Головой не кивнул мне, в маменьку весь… Все ведь на него молятся, только от него спасенья и ждут, науку их всю произошел… Ступайте, батюшка, ступайте, а то смутят папеньку-то против вас.
— Не могу я, Матвей Ильич, с ними из-за наследства воевать, противно мне это, — с искренним отвращением заметил юноша.
— Эх, батюшка, знаю я, знаю… Оно бы и не родному сыну об этом думать, глядя на отходящего отца… Да ведь что вы станете делать? Не сделает папенька духовной, — ничего не получите, помяните мое слово.
— Да мне ничего и не надо, Матвей Ильич, — с жаром воскликнул юноша. — Я работать буду, я нужды не боюсь.
— Дитя вы, дитя! — покачал головой старик. — А маменька, а сестрица-малюточка, а братец что будут делать?
Юноша опустил голову.
— Ступайте, голубчик, ступайте! Из глаз вон — из ума вон, — говорит пословица: так и будьте же у папеньки на глазах.
Юноша вздохнул и пошел неторопливыми шагами в комнату отца. Едва слышно отворил он дверь, и, казалось, луч солнца прокрался в эту мрачную комнату больного, так мгновенно озарилось приветливой улыбкой лицо лежавшего на постели человека.
Это был исхудалый, умирающий человек с запуганным, нерешительным и измученным лицом. Выражение раздражительности и досады поминутно сменялось на этом лице тоскливою страдальческою покорностью.
Сын графского управляющего-чиновника, Евграф Александрович Обносков в детские годы исполнял роль тех крепостных девчонок, которых секли для примера, когда барские дети не знали уроков или шалили. Тяжело было ему учиться с графскими детьми и отвечать за их проступки, но, несмелый и нерешительный, он покорился своей участи и даже полюбил графских детей, забывая все оскорбления, за их малейшую ласку. Любил он и своего отца, и свою мать, оправдывая их грубое обращение с ним влиянием нужды и необразованностью. Поступив в Московский университет, он так же стал оправдывать лень графов-друзей влиянием пустой среды и работал за них. С годами его мягкое, любящее сердце все более и более размягчалось и находило оправдания всем людским порокам, всем гадостям. Семья воспользовалась этим и сделала его своим батраком, платя ему за все сладкими речами и нежными поцелуями. Было время, когда ему удалось вырваться на три месяца из дома, уехав с одним важным лицом в Варшаву по делам, — но среди чужих, трезво работающих, беззаботно веселящихся, не особенно любящих, не особенно враждующих людей его размягшему сердцу стало как-то пусто и холодно: он тосковал, не слыша нежных речей, не чувствуя сладких родственных лобызаний. «Прочь, прочь от этих безучастных, самодовольных людей!», — уже восклицал он мысленно, когда произошел один неожиданный случай, изменивший и его намерения, и его взгляды на свою семью.