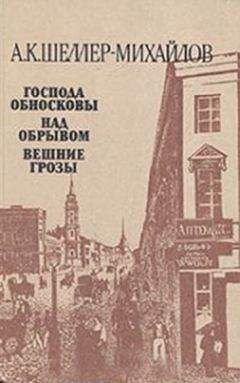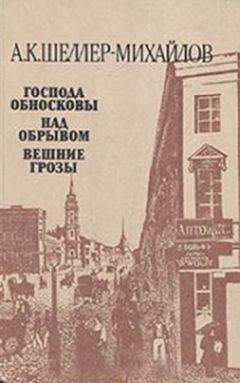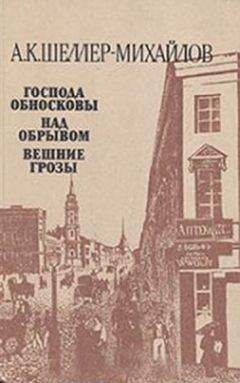— Ошибка передо мною, — это ничего не значит… Другие ошибки, ошибки перед обществом важнее, — спокойно замечала она.
Счастье Обноскова в кругу образованной молодежи, собиравшейся около этой женщины, было полное… Не такова была его жизнь в своей семье, где он лежал больным в то время, когда застает его наш рассказ. Он хмурился и охал, окруженный нежными, любящими и не оставляющими его ни на минуту родственницами, пожертвовавшими для него всем своим временем, всеми своими желаниями. Довольно было ему обратить куда-нибудь свои потухающие глаза, чтобы все родные с недоумевающими и вопросительными взорами бросались наперерыв исполнять еще невысказанное им желание. Он поворачивал голову и тотчас же три женские руки протягивались поправить ему подушку, слышались три женские, заискивающие и сладкие голоса, спрашивавшие: «Вам, братец, верно, неловко?» Боже мой, сколько любви, заботливости и нежности было в этих словах, каким бархатным, шепчущим и ласкающим напевом произносились они!
— Благодарю, мне очень хорошо, — слабым голосом отвечал больной и закрывал глаза.
— Братец, вы, может быть, уснуть хотите? — шептали ему баюкающим тоном заботливые голоса. — Мы посидим, мы не будем говорить…
— Зачем же сидеть? Идите! — нетерпеливо возражал больной, почему-то воображавший, что его могут бросить хоть тогда, когда он уснет.
— Ах, братец, теперь мух так много. Они вас беспокоить будут, — шептали вкрадчивые голоса.
— Ничего, я не чувствую от этого беспокойства…
— Ангел, терпеливый страдалец! — слышалось восклицание, исполненное благоговейного умиления. — Вы всё беспокоитесь нас утомить… Да ведь мы всем, всем пожертвовали бы для вашего спокойствия… Приказывайте!.. Приказывайте нам!..
Больной сохранял молчание и тяжело вздыхал, не имея ни сил, ни охоты высказывать свои желания, тем более, что он знал, что сестры исполнят всё, всё, но только не решатся оставить его одного, не решатся не заботиться о нем. Требовать чего-нибудь подобного, значило бы требовать, чтобы любящий человек бросил своего любимца в минуту опасности, именно в ту минуту, когда и нужна помощь любящего существа. Конечно, на такие требования нельзя согласиться и трудно их предлагать. Теперь больной слушал рассказы приехавшего из-за границы племянника с выражением какой-то тупой рассеянности.
— Поди ко мне, дитя, — прошептал он с просветленным лицом, завидев появившегося в его комнате юношу.
Мальчик подошел к постели. Больной взял его за руку и обернулся к племяннику.
— Ты его еще не видал? — спросил он.
— Мы уже познакомились, — уклончиво отвечал Обносков.
— Добрый ребенок, очень добрый ребенок! — пожав руку юноши, сказал больной. — И характер матери…
У мальчика навернулись на глазах слезы. Он присел на кровать.
— Ах, вы лучше на стул сядьте, — заговорили ласково вкрадчивые голоса, — братцу неловко будет.
Юноша закусил нижнюю губу и сконфуженно привстал с места, но больной удержал его за руку и с упреком взглянул на сестер.
— Пусть сидит тут, как можно ближе ко мне сидит… Ведь недолго ему быть тут… — проговорил он и, подняв руку, опустил ее в кудрявые, шелковистые волосы мальчика.
— Добрый, добрый братец! — воскликнули сестры и готовы были прослезиться от умиления. — Всех обласкать, приголубить, пригреть хочет… Это надо ценить, ценить надо…
Юноша, с яркой краской обиды на лице и крупными, дрожавшими на ресницах слезами, сидел неподвижно на постели, обвив одною рукою больного, лицо которого едва было видно Алексею Алексеевичу Обносксву из-за груди мальчика.
— Ну, как тебе понравилось за границей? — лениво и безучастно расспрашивал больной.
Обносков стал рассказывать про заграничную жизнь.
— А что, твои занятия успешно кончились?
Обносков дал отчет и о своих занятиях.
— Ну, а как наша молодежь там живет? — продолжал расспросы больной, видимо довольный близостью к себе юноши и говоривший просто от нечего делать. Его вопросы совсем не занимали его самого; ему было уютно и тепло около молодого, драгоценного существа, и он смотрел на остальное совершенно равнодушно.
— Скверно живет она, дядя, — резко ответил Обносков. — Мало учится, мало работает.
— Не хорошо, не хорошо! — каким-то старчески добродушным, незлобивым тоном нараспев заметил больной и ласково вскинул глаза на юношу. — Вот мы не так будем заниматься, Петя; мы привыкли к труду, — по-детски шутил он, и был вполне доволен, увидав улыбку мальчика, вызванную этими шутливыми словами.
— Увлекается молодежь разными современными вопросами, — продолжал Обносков, — агитировать постоянно стремится, нахваталась разных либеральных идеек и носится с ними, как дурак с писаной торбой…
— Всё то же, всё то же, что и в наше время было, — шептал больной. — Не умирают юные силы… не задавить их…
— Но хуже всего эта эмансипация женщин, да то, что мальчишки развратничают, живут с эмансипированными любовницами, а толкуют о свободе женщины и о гражданском браке. Они…
Лицо больного сделалось вдруг тревожно. Его нежные сестры и мать Обноскова заметили это и вскочили с вопросом: «Не надо ли чего-нибудь братцу?»
— Петя, иди в залу, подожди доктора, — промолвил больной, обращаясь к юноше.
Юноша встал, чтобы идти, но больной притянул его к себе и поцеловал.
— Теперь ступай, — окончил он.
Мальчик вышел; его глаза сверкали гневом, точно последние слова Алексея Алексеевича Обноскова задели его за больное место.
— Послушайте… я хочу один остаться… с Алексеем, — обратился больной к сестрам.
Они и мать Обноскова повиновались и оставили комнату, где воцарилось какое-то тяжелое молчание. Алексей Алексеевич из почтительности к старшему родственнику не прерывал этого безмолвия, а дядя, по-видимому, собирался с духом, чтобы заговорить. Казалось, что он собирается сказать что-то очень важное…
IV
Исповедь старого Обноскова
— Ты неосторожно поступил, — начал Евграф Александрович Обносков. — Таких вещей не должно говорить при этом ребенке.
Племянник не то сконфуженно, не то холодно молчал и как-то сострадательно и даже презрительно смотрел на встревоженное лицо дяди.
— Но я рад, что ты так или иначе вызвал меня на объяснение. Я уже давно думал поговорить с тобою о наших делах, хотел писать к тебе, но не мог… не мог решиться, — продолжал, запинаясь, нерешительный дядя, и по лицу его скользнула горькая усмешка. — Ты совершенно прав, нападая на разврат современного общества. Тебя, всегда осторожного, всегда рассудительного, должны возмущать промахи беззаботной юности, но, друг мой, клеймить ее только за одно это — грех…
Больной закашлял, и его лицо вдруг приняло свое обычнее выражение нерешительности и изнеможения. Можно было легко заметить, что он говорит совсем не о том, о чем хочет говорить, и что до этого желанного предмета разговора он может дойти только после множества совершенно посторонних делу фраз.
— Мы больше всего виноваты, если современная молодежь и вступает в незаконные связи, — заговорил больной. — Мы все, люди отживающего поколения, жили с любовницами; одни при живых женах имели посторонние связи; другие просто не женились на любимых и близких им женщинах потому, что им не позволяли этого родные; третьи жили весь век с женщинами, не женясь на них потому, что считали сами женитьбу на них за неравный брак и не имели смелости ввести в свой дом ту женщину, которая, несмотря на свое происхождение, хранила всю их жизнь и делала их счастливыми… Свет смотрел на эти связи сквозь пальцы, потакал им, так как его приличия не нарушались, в его кружки не вводились дочери людей темного происхождения, но, друг мой, тут приличиям приносилась в жертву человеческая личность.
Больной взволновался и замолчал. Алексей Алексеевич никак не мог понять, для чего это дядя толкует о вещах, не касающихся ни до которого из них.
— Дядя, вам надо бы отдохнуть теперь, — заметил он.
— Нет, нет! — замахал рукою дядя. — Я сейчас дойду до того, что я хочу сказать… Я договорю, договорю, — успокаивал он, кажется, не столько своего слушателя, сколько самого себя, как бы доказывая самому себе, что на этот раз, может быть, впервые в жизви, ему удастся победить свою нерешительность и высказать именно то, что ему нужно высказать.
— Никто не бросал в нас камня за то, что мы, подчиняясь условиям сыновнего долга, светским приличиям или своим сословным предрассудкам, налагали пятно на женскую личность, делали ее в глазах света развратницей, — объяснял больной. — Молодежь назвала эти связи гражданским браком. Она сильно ошиблась в практической стороне дела, но все-таки в ее стремлении есть много честности. Она как бы хотела сказать своим ближним: хотя вы не позволяете мне ввести в ваш круг любимую мною женщину, но я все-таки признаю ее моей женою, то есть не существом, которое я брошу по прихоти, которое я развращаю, а личностью, с которою я связываю себя навек перед своею совестью… Разумеется, это ошибка в практическом смысле, но виноваты в ней мы, только мы, люди отжившие. Мы поступали еще хуже, мы увлекали женщину, оставляя за собой право бросить ее, и в то же время называли ее позорящим именем любовницы…