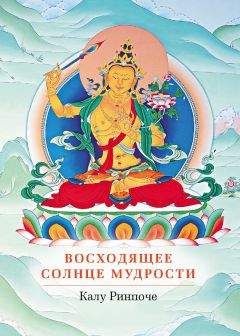Воевода сел на коня и отъехал, Ордин-Нащекин махнул своему слуге. Встретясь с дворянином взглядом, Емельянов поклонился ему.
— Здорово, Федор! Слыхал о твоей беде. Что делать — во всем его божья воля! — сказал дворянин, уже сидя в седле. Он снял шапку и, набожно перекрестясь на собор, уже не глядя в сторону Федора, разбирал поводья.
— Дельце к тебе, Афанас Лаврентьич, дозволь заехать, — поспешно выкрикнул Емельянов.
— Скорое дело? — спросил дворянин, явно недовольный задержкой.
— Живая душа погибает! — ответил Федор.
— Ин заезжай, коли так, ныне после обеда.
Ордин-Нащекин преобразился: выходя из церкви с воеводой, он был медлителен, важен. Вскочив на коня, стал быстр в движениях, развязен. Последние слова он крикнул, уже тронув с места коня. Жеребчик взметнулся под всадником и, вызывая зависть дворян, в туче пыли мгновенно скрылся по направлению к Рыбницкой башне[36]…
Когда Емельянов подъехал к своему долу, два казака у его крыльца держали под уздцы мышастого долгогривого жеребца не хуже того, на каком ускакал Афанасий Лаврентьевич. Конь косил пугливым глазом, прядал ушами и беспокойно переступал. Тонкая серебристо-голубая кожа на его шее вздрагивала. С удил на сухую траву падала хлопьями белая пена.
— Здоровы, казаки! — окликнул Федор.
— Здоров, гость торговый! Околдовал тебя жеребец? — отозвался Никифор Снякин. — Видал я намедни, как ты на него загляделся. То я его и дворянам не отдал — тебе сберег. Неделю ходят толпой, друг у друга отбить хотят.
— Буде врать, — одернул его Федор. — Кабы цену дали, и ты бы отдал, да просишь безбожно, за то не берут.
— Цена по товару, и товар по цене, — ответил Снякин.
— Какая ж твоя последняя цена? — сурово спросил Федор.
— Строг ты, купец! Весь в покойного батьку! Наша цена — как первая, так и последняя, — ответил с достоинством Снякин, — полтораста рублев, и уздечка твоя, да и все четыре подковы бери в придачу, — лихо добавил он.
— А на каждой по восемь дыр, да в каждой дыре по гвоздю, да по три шипа на каждой подкове прикинь — то и сходно! — подхватил второй казак.
— Пустобрехи, право! — усмехнулся Емельянов. — Сто с четвертью получай да вина полведра — вот тебе красная цена. Попусту врать не люблю. Любо — бери, нелюбо — уходи. Назад не покличу: обычай таков у меня!..
— Не купецкий обычай! Купцу о цене рядиться — что мед пить! — сказал казак. — Ставь ведро да бери жеребца — деньги надобны… — заключил он, сдаваясь.
3
Емельянов один на двуколке подъехал к дворянскому дому и пешком прошел по двору Ордина-Нащекина. Дворянин без спеси, по-дружески встретил его у дверей и провел в просторный, богатый покой, стены которого были необычно украшены саблями, кинжалами, секирами разной иноземной и русской работы. В двух железных кольцах, свисавших с потолка, качались два ярких попугая. Большое веницейское зеркало[37] в узорной серебряной рамп торжественно сияло в простенке между окон, чудесно повторяя образы всех вещей, а напротив ковер во всю стену с удивительно вытканной картиной, изображавшей Авраама[38] и странников у шатра, ласкал взор нежными красками. В углу перед кивотом[39] горела лампада, сверкавшая искрящимися хрустальными гранями в золотой оправе. Все эти необычайные вещи способны были привести в удивление не только Емельянова, но многих из знатных дворян, чьи дома почти не отличались от простонародных. С любопытством взглянул Емельянов исподлобья на эти диковины.
— Помнишь, в свайку играли бывало. Сыграем нынче в шахмат, — просто предложил дворянин, расставляя на доске медные фигуры.
— Не тем голова занята, Афанас Лаврентьевич. Я по страдному делу к тебе, — сказал Федор.
— Ну, сказывай. Чем могу, пособлю… Да садись ты, садись!.. Эй, Сергунька! — позвал дворянин.
В комнату пошел молодой слуга, провожавший Ордина-Нащекина поутру к обедне.
— Дай зеленого по стакану, что немец привез из Риги, — приказал хозяин.
— Там коня привели, Афанасий Лаврентьевич, — сказал слуга.
— Какого коня? — удивился Ордин-Нащекин.
— Так, пустяшный жеребчик тебе в поминок, — вмешался Федор. — Вели на конюшню поставить в худое стойлишко. После, будет досуг, по пути поглядишь.
— Пойдем вместе глядеть! — оживленно позвал дворянин. — Люблю я коней!
— Да нестоящий жеребчишка, чего и смотреть! — возразил Емельянов. — Трудиться не стоит.
Но дворянин уже вышел во двор.
Снякин с товарищем держали коня у крыльца.
Как бы на заказ для этого коня, шитая серебром, красовалась теперь на нем серая бархатная попона с кистями. Голубизна конской лоснящейся шерсти была вправлена в серебряную оправу. Жеребец казался ожившим изваянием с живыми огромными глазами. Стальные удила хрустели на зубах, и казалось, вот-вот он их разгрызет.
— Федор Иваныч! Федя! Вот ублажил! — не скрывая восторга, воскликнул Ордин-Нащекин. — Ведь я ночи не спал об этом коне! Ан ты для меня его укупил… Вот спасибо! Дай руку…
Потрясши Емельянову руку, дворянин с разгоревшимися глазами, забыв всякий чин, почти по-мальчишески присел возле коня на корточки.
— Ты бабки, бабки пощупай, что репа крепки! — приглашал он Федора.
— Мотри, дворянин, не убил бы конь, — остерег с насмешкой казак.
— Меня конь не тронет, конь друга чует! — ответил Ордин-Нащекин.
— А тонконог — как коза! И глаз игрив — как зарница. Ишь косит, ишь косит!.. Да не бойся, ду-ура!
Дворянин огладил коня по крупу, обошел вокруг и снова залюбовался со стороны, как картиной.
— Ну и грудь! Илья Муромец, а не конь. Всей выходкой лев, да и только! И ноздря тонка, как у боярышни… Честных кровей животина. Он, я мыслю, в лошадстве не меньше князей Голицыных али Хованских… А и чепрак богат!
— Каков конь, таков и чепрак, — одобрительно сказал казак Снякин.
— Золотно шитье узнаю бухарское. На Москве видал браную скатерть[40] такого шитья, — сказал дворянин, взявшись за тяжелую, серебряных нитей, кисть.
— Угадал, Афанас Лаврентьич, — подтвердил довольный Федор, — бухарский купец наездом был в Астрахань. У него тот чепрак мой батя-покойник купил.
— Идем в беседку, — позвал дворянин, отпустив казаков и наказав отвести коня на конюшню.
— Мы с тобой, Федор, вроде как братья росли, — сказал дворянин. — В ребячьи годы чинов не знают и все человеки братья. Которые молочные, которые крестовые, а мы сваечные братья. Детское побратимство — в забавах да радостях. Нужды мы тогда не ведали, а пришла кручина — брат брата выручать винен.
— Мудрены слова, — сказал Федор. — Кабы все по тем словам жили!..
— В чем же нужда твоя? — спросил дворянин.
— Нуждишка моя холопья не так велика, Афанас Лаврентьич. Тебе, дворянину, труда не будет, а мне за тебя станет богу молить по вся дни живота[41].
Они шли богатым садом, разросшимся тут же позади дома. В плетеной беседке, завитой вьюном, куда они вошли, из угла поднялся от книги пан Юрка, поляк, домашний переводчик Ордина-Нащекина.
— Воскресный день, пан, а ты, я вижу, и после обеда покою не знаешь. И от книжного дела надобен отдых, — заметил хозяин. — Поди хоть смороды нарви по кустам и глазам дай мир.
Поляк, поклонившись, вышел. Они остались в беседке одни.
— Скидай кафтан — тут по-свойски. Ишь пекло какое! — сказал дворянин, первым скидывая на лавку шитый парчой зипун и оставаясь лишь в белой рубахе.
— Слыхал ты про новый царский указ, Афанас Лаврентьич? — спросил Федор.
— Про свейских выходцев? Слышал. Тебе-то в нем что?! — удивился дворянин.
— Пошли бог здравия государю на многие лета, а я его мудрости не могу своим хилым умишком постигнуть. Чай, те выходцы християне! — сказал Федор.
— Так что?
— В родную землю от немцев они бегут, а ты им и приюта не дай!
— Не нам судить, Федор. То царская воля.
— Я супротив царской воли и помыслить не смею, да в разум того не возьму… Есть у меня человек. Мне батя-покойник его завещал во всем слушать наместо себя, а ныне, по царскому указу, я того человека повинен, как татя, явить в приказную избу[42]… А батя-то с неба смотрит — кручинно ему…
— Как я пособлю в той нужде? — спросил дворянин.
— Ты к воеводе вхож. Слово молвишь за того человека, и воевода его в покое покинет, а я за то воеводе от скудных своих доходишков дар принесу и тебя не забуду…
— Что же, стану просить воеводу. Авось упрошу, — сказал дворянин.
— Пожалуй, не поленись! Смягчи его сердце, и я тебе век усердствовать стану и бога молить, Афанас Лаврентьич. Зовут человека того Филипп Шемшаков, площадный подьячишка пишется.
— Ладно, — согласился Ордин-Нащекин, — попомню Филипку. Ныне у воеводы буду, попомню.