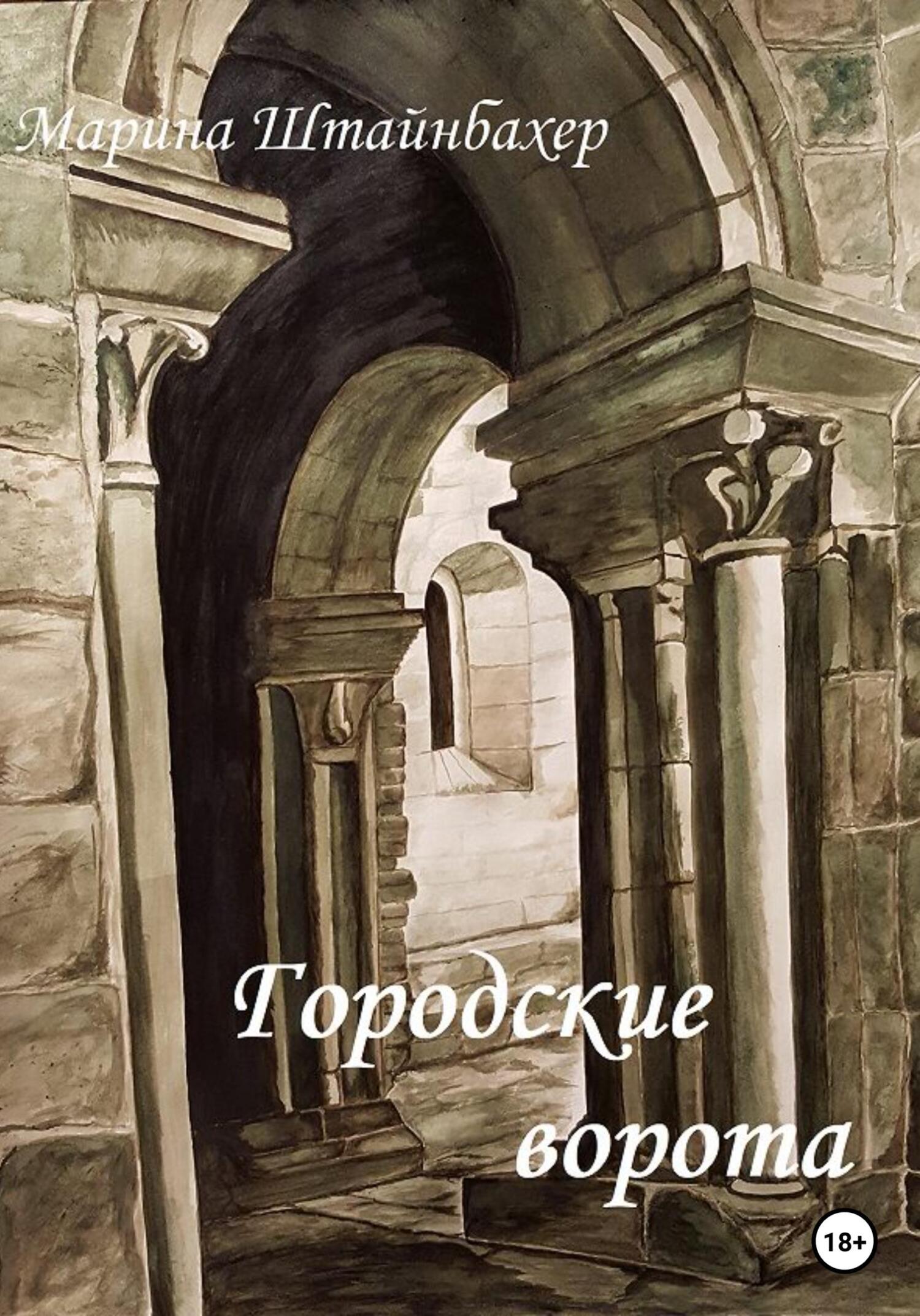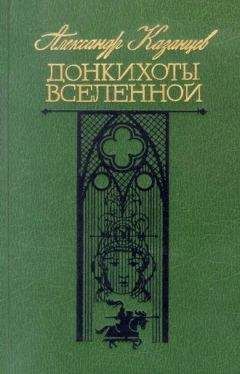вернее ореховская преступная группировка приехала до наших на разборки. А наши- то на даче отсиживались. Ээээ! Те, с пистолетиками, которые наши, сипатовские, а те их автоматами, московские, — сержант показал как производится автоматная очередь.
— Сипатовские? — подскочил Лёха, с трудом вникающий в речь сержанта.
— Да я ж говорю, хлопец, — раздражительно запыхтел сержант, — лидер у них, звать Сипатый. Лидер прэступной группировки, потому «сипатовские». И его порешили и всю шоблу с ним. И у ореховских пара трупов. Бабки не поделили, вишь ты. Вот надо разбираться, — он грозно повысил голос, — а мы тут эти. груши пинаем. Давай, кажу, по сушчэству. Я буду рассказывать, как оно произошло, а ты кивни, так мол, товаришч сержант, или не так. Значит, сидишь ты в электричке, и тут, глядь, видишь…
Пока сержант рассказывал Лёше как тот получил ранение, геройски защищая пассажира электрички от хулигана, тот кивал, мычал, а в голове у него крутилось — нет больше Сипатого. Некому долг отдавать. Нечего больше бояться. Свободен!
— Вот и разобрались с богом. Подпиши показания, — сержант протянул Лёхе планшет.
— А точно убили? В смысле, Сипатого?
— Точнее не бывает. Опознание провели. Милиция работает, не спит, — сержант подмигнул Лёхе, забирая у него бумаги.
— А когда это случилось, не подскажите?
— Да я ж и говорю — сегодня и случилось. Пока тебя с электрички снимали и случилось. Ну, с тобой мы закончили, выздоравливай, герой! Поеду у отдел. Бывай!
Сержант вышел, а Лёха всё смотрел ошеломлённо ему вслед, соображая, уж не приснилось ли ему это всё. «Значит, пока я там бабкин грех отрабатывал, тут мой долг списан оказался! Теперь понятно, зачем Сипатый на даче торчал, в городе не показывался, он, выходит, от выплаты своих собственных долгов прятался. А мне мой не простил. И никому не прощал. Теперь, выходит, долги все списаны. А если б я за того верзилу в поезде не вписался? Книжку своей не признал? Остался бы я там навсегда, бабкины повинности отрабатывать, или сюда бы вернулся? Чёрт, да ведь меня тоже могли бы на даче положить, если б я бабку не встретил!» Лёха резко уселся в кровати, не обращая внимания на ноющую боль. «То-то она говорила «на тот свет спешишь»! Может, мне эта бабка жизнь спасла. Во дела. Матери бы надо позвонить. И Димону. Эх, я бы прямо сейчас накатил чекушечку! Голова кругом идёт».
Дверь открылась, вошла Ксюха с подносом, на котором стояла тарелка с сероватым пюре и подсохшей сосиской.
— Проголодался? — жалостиво спросила Оксана, любуясь Лёхой, стремительно поглощавшим витамины и минералы.
— Угу, — Леха сосредоточенно соскребал картофельное пюре с тарелки, — я бы сейчас водочки накатил бы для прояснения в мозгу.
— Подожди-ка, — сделав таинственное лицо, Ксюша выскочила из палаты и вернулась с пакетом, в котором оказалась бутылка «Метаксы».
— Водочки нет, но вот есть коньяк греческий. Клиент подарил, — Ксюха присела на край кровати, ловко плеснула на дно лёхиного стакана из-под компота, — я вообще-то с больными себе не позволяю, но, раз уж конец дежурства, с тобой выпью. Поскольку ты герой, как наш Пал Сергеич сказал. На вот, для кровообращения. — смутилась Ксюша.
— Спасибо, сестричка, — Лёха подозрительно понюхал янтарный напиток, — Ликером женским пахнет. Ну, на безрыбье. Только какой я герой? Нормальный человек, обычный. Специалист по ремонту жилых помещений. Вот окно ваше взять. Кто ж так ставит? Смотри, пена вся неравномерно, наружу. Нагребли чиновники на вашем ремонте! — Лёха, польщённый вниманием, разошёлся.
— Господи, да ты ещё и рукастый мужик! — Ксюха восхищённо сложила ручки на объёмистой груди. И вдруг, безо всякого предупреждения, рванулась и прижалась тёплыми мягкими губами к Лёхиному рту.
Обалдевший от близости ксюшиного тела, от неожиданной ласки, Лёха так и застыл со своим стаканом, пока Ксюша, оторвавшись от него, вдохнула воздуха и, поправив причёску, заторопилась: «Пора мне, пока кто-нибудь не зашёл. Спи, набирайся сил. А я завтра опять в вечернюю, загляну к тебе». Улыбнувшись, девушка проворно спрятала коньяк в пакет и выпорхнула за дверь.
Обнаружив, что он всё ещё держит стакан, Лёха выплеснул, наконец, его содержимое в рот. Коньяк оказался сладковатым и не шибко крепким, но Лёха немедленно почувствовал в груди живительное тепло и расслабился, заулыбался, поудобнее устаиваясь на койке.
«Интересно, — думал он, усмехаясь и заматываясь в тонкое одеяло, — отработал я в итоге бабкины грехи? Тут пора бы уже и свои… это…нарабатывать, а я всё с чужими разбираюсь».
Оглушённый произошедшими событиями, Лёха долго ворочался, пристраивал голову на подушке, чтоб не задеть рану, и всё не мог успокоиться. «Что ж это за книга такая, чтоб за неё уголовку заводить? «Мы». Что за «мы»? Писатель какой-то на «зэ». Надо у матери спросить, зря она что ли в школе всю горбатилась, должна знать. Надо бы почитать — из-за чего весь сыр-бор. Надо почитать..». Постепенно мысли делались клейкими, тягучими, в голове, сменяя друг друга, возникали невнятные образы и утомлённый Лёха, наконец, уснул. Растворились и исчезли гулкие голоса за дверью, шум машин за окном. Растворился насыщенный событиями, изменивший судьбы многих, день. И только тихое жужжание настенной лампы нарушало тишину больничной палаты, в которой крепко спал Алексей Бондарев, человек без долгов.