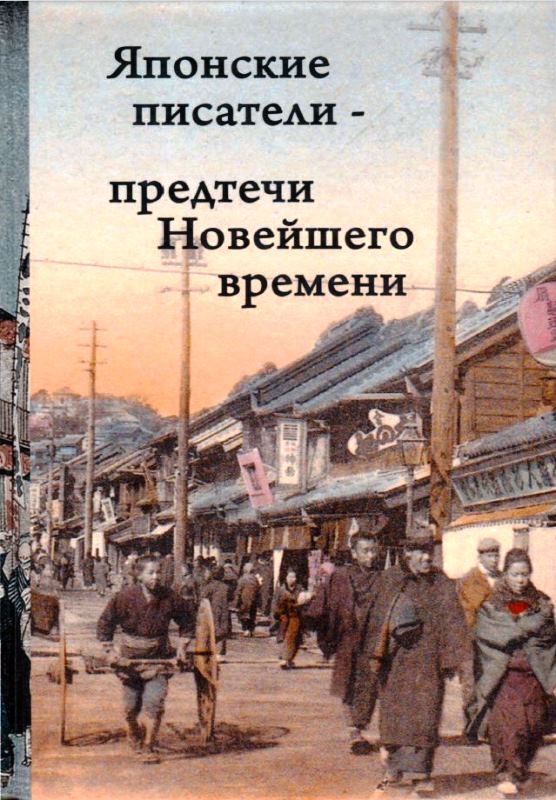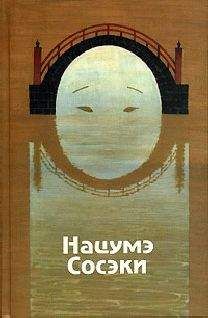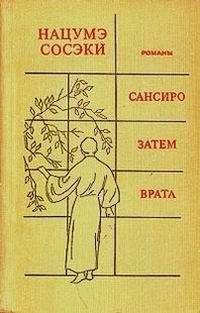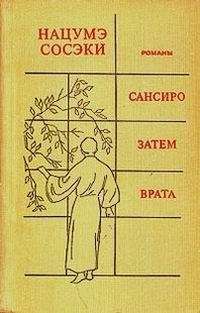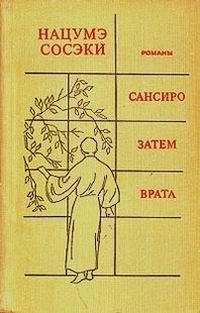видели снаружи продавца золотых рыбок?
Я отвечал, что не видел, а человек в белом больше не проронил ни слова, продолжая работать ножницами. Внезапно кто-то громко крикнул: «Берегись!» и я быстро открыл глаза, но успел увидеть из-под руки парикмахера только велосипедное колесо. Я заметил и рукоятки коляски рикши, но человек в белом взял мою голову обеими руками и твёрдо отвернул в сторону. Я больше не мог видеть ни рикши, ни велосипеда. Ножницы снова защёлкали.
Наконец, человек в белом перешёл на другую сторону и принялся постригать вокруг моих ушей. Клочки волос перестали разлетаться, и я смог без опасений открыть глаза.
Тут кто-то неподалёку заговорил громко и нараспев:
— Авамоти, моти, моти!
Напевая, они толкли моти в ступке пестиком. Я с детских пор не видел продавцов авамоти вразнос и захотел посмотреть, но в зеркале они так и не появились. Всё, что мне досталось, это звук от того, как моти толкли.
Я изо всех сил уставился в угол зеркала, как вдруг заметил, что за деревянными жалюзи сидит женщина. Она была смуглой, с широкими бровями, крепко сложенная; волосы уложены в причёску итёгаэси; [25] одета в простую суавасэ на чёрном дзюсу, [26] и пересчитывала пачку ассигнаций. Похоже, это были 10-иеновые купюры. Она опустила длинные чёрные ресницы и поджала тонкие губы, сконцентрировавшись на своём деле и считая с замечательной скоростью. В пачке не могло быть более ста купюр, но сколько она ни считала, там всё время оставалось сто.
Я с безразличием посматривал на лицо женщины и на 10-иеновые купюры, но тут человек в белом громко сказал у меня над ухом: — Давайте помоем голову! Это было как раз то, что мне нужно; я встал и посмотрел за стойку, однако там не было ни женщины, ни купюр, вообще ничего.
Я расплатился и вышел из парикмахерской. На улице, слева от входа я увидел пять небольших овальных ёмкостей, в которых плавали золотые рыбки: красные, пятнистые, худые и толстые и много других видов. Рядом с ними сидел продавец. Он сидел совершенно неподвижно, подперев рукой подбородок и глядя на рыбок. Казалось, суматошное движение вокруг его совершенно не касается. Я немного постоял, наблюдая за продавцом, но за всё это время он ни разу не пошевелился.
В мире начались какие-то беспорядочные шевеления. Казалось, вот-вот начнётся война. Вырвавшиеся из сгоревших конюшен рассёдланные лошади днём и ночью носились вокруг дома, как будто их гонял неумелый конюх. В доме же всё было тихо как в лесу.
В доме находилась молодая мать и трёхлетний ребёнок. Отец его куда-то ушёл. Он ушёл куда-то безлунной ночью. Натянул на ноги соломенные варадзи, накинул чёрный капюшон и вышел через боковую дверь. Мать держала фонарь бонбори, [27] откуда в ночь падал длинный и узкий луч света, освещая старый кипарис у ограды.
С тех пор отец не возвращался. Каждый день мать спрашивала у своего трёхлетнего ребёнка: — А папа где? Ребёнок поначалу ничего не говорил. Через некоторое время он стал отвечать: — Там. Когда мать спрашивала: — А когда он вернётся? Ребёнок снова говорил: — Там, — и улыбался. Тогда мать тоже улыбалась. Тогда он. Раз за разом повторяла ребёнку: — Он скоро вернётся, но ребёнок запомнил только слова «скоро». Иногда, когда она спрашивала: — А папа где? — он отвечал: — Скоро.
Когда спускалась ночь, и снаружи всё затихало, мать перевязывала свой пояс оби, затыкала за него короткий меч с рукояткой, обтянутой акульей кожей, другим, более узким оби привязывала ребёнка к спине и выскальзывала наружу через боковую дверь. Она всегда надевала на ноги дзори, [28] звука от шагов в которых иногда хватало, чтобы убаюкать ребёнка.
Затем мать шла на запад, оставив позади земляные стены строений, покуда не спускалась до подножия холма, где росло большое дерево гинкго. Свернув от него направо, она проходила ещё где-то 1 тё, [29] покуда справа не показывались ворота тории [30] в конце дорожки, с одной стороны которой было рисовое поле, а с другой только бамбуковые заросли. Рядом с тории стояло несколько тёмных криптомерий. Затем она проходила ещё где-то 20 кэн по вымощенной камнями дорожке, покуда не оказывалась в начале лестницы, ведущей к древнему храму. Повыше ящика для подношений, отмытого до бледно-серого цвета, свисала верёвка от большого колокола, а днём рядом с колоколом была видна надпись в рамке: «Хатимангу». Из восьми её иероглифов первый, означавший «голубя», был написан в интересном стиле, как будто две птицы смотрели друг на друга. Там висели и другие надписи в рамках. Большинство из них были домашними кинтэки, покрытые золочёной бумагой, с именами воинов, которые пробили их своими стрелами. Местами в виде подношений висели мечи. За тории, в ветках кедровника всегда копошились и ухали совы. Грубые дзори женщины шлёпались на землю. Как только они доходили до храма и все звуки прекращались, мать сперва звонила в колокол, а потом сразу же сгибалась в поклоне, сложив перед собой ладони. Обычно в этот момент совы замолкали. Затем женщина начинала горячо молиться о спасении своего мужа. По её убеждению, он был самураем, а Хатиман — богом лучников; разумеется, такие ревностные молитвы не могли остаться совершенно незамеченными.
Обычно от звука колокола ребёнок просыпался и начинал плакать, испуганный окружающей темнотой. Женщина при этом не переставала бормотать молитвы, но принималась успокаивающе покачивать ребёнка на спине. Иногда этого было достаточно, что бы тот перестал плакать. Иногда же это его только раззадоривало. В любом случае, мать далеко не сразу распрямлялась из своего склонённого положения.
Один раз она прочла все молитвы о благополучии мужа, которые знала, затем ослабила пояс и переместила ребёнка вперёд, удерживая его руками, покуда сама поднялась по ступенькам до самого храмового здания. Поднеся губы к щеке ребёнка, она сказала: — Хороший, хороший; подожди немного! После этого, она совсем сняла маленький оби, обвязала один конец его вокруг тела ребёнка, а другой прикрепила к храмовому крыльцу. После этого она спустилась вниз и принялась ходить взад-вперёд по вымощенной камнем дорожке в 20 кэн. Чтобы её просьба исполнилась, надо было пройти так 100 раз.
Ребёнок, которого оставили привязанным к храму, ползал по его крыльцу, насколько позволяла длина оби. Для матери такие ночи были большим облегчением. Когда же ребёнок начинал кричать и плакать, она приходила в расстройство. Её шаги в ходе ста проходов становились всё более убыстрёнными; она