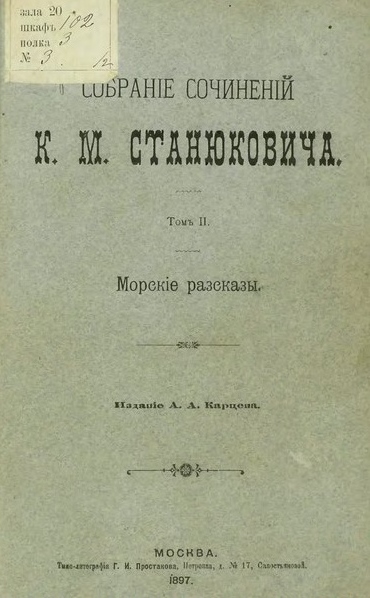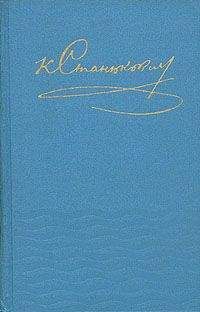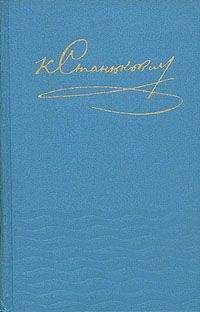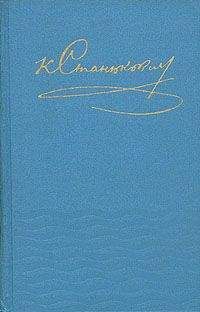не по летам. Мальчик улыбнулся при взгляде на отца и присел на кровати.
При звуках этого ласкового голоска Трамбецкий ожил, как оживает завядший лист под утренней росой. Он быстро приблизился к кроватке, поцеловал мальчика, взглянул в лихорадочно блестевшие глазенки, ощупал горячую голову и, озираясь, спросил:
— А няня где?
— Няня ушла. Я отпустил ее. Ей скучно со мной. Ты не сердись, папа, — прибавил мальчик, заглядывая отцу в глаза. — Право, я сам ее отпустил…
— Тебе одному скучно было?
— Нет, папа… Я привык… Я все думал…
— Думал, о чем же ты думал, мой мальчик?
— Много о чем… Я тебе все расскажу. Больше о тебе думал… Такой ты, голубчик, больной у меня… все кашляешь!
Мальчик взглянул в глаза отцу и долго, долго всматривался в них серьезным, ласковым взором.
— Что ты, Коля?.. — тихо спросил отец.
— Ничего… На тебя смотреть хочется… я ведь тебя так люблю, и сказать не могу, как люблю… Я все думал, что ты больше не уедешь? Нет?..
— Нет… родной мой… нет! Однако укройся хорошенько… Ишь, головка какая горячая!.. У тебя болит что-нибудь? — шептал отец, накрывая мальчика одеялом.
— Ничего не болит, только жарко. Так приятно и жарко, а ничего не болит. Пить хочется…
Отец подал воду. Мальчик глотал ее жадными глотками.
— Ты не уезжай смотри, а то мне без тебя будет скучно. Ах, как мне было скучно, когда тебя не было… Если б ты только знал… Ты ведь меня не оставишь?.. Я вырасту, и мы будем вместе, всегда вместе. Только, папочка, милый мой… прости меня, что я тебе скажу…
— Что, дитя мое? Говори все… говори…
Мальчик остановился, задумался и потом тихо, совсем тихо прошептал:
— Ты не пей вина… От него у тебя грудь болит и кашель… Ты так кашляешь, и мне жаль тебя…
Крупные капли слез скатились из глаз отца на горячую руку мальчика.
Он привстал, страстно обвил шею отца, замер в немом отчаянии и, всхлипывая, повторял:
— Я тебя огорчил, добрый мой… Прости меня…
Но в ответ отец покрывал горячими, страстными поцелуями возбужденное лицо сына и шептал ласковые, нежные слова.
— Я не буду больше пить, милый мой, и я никогда не оставлю тебя. Я буду учить тебя… Ты ведь мой ненаглядный.
Мальчик тихо сжимал своими маленькими ручками длинную бледную руку отца.
Они не говорили ни слова, но, казалось, ребенок понимал, что делается с отцом, и все крепче и крепче сжимал любимую руку.
Отец бросал частые тревожные взгляды на горевшие щеки мальчика, прикладывал руку к его пылающей головке, прислушиваясь трепетно к прерывистому дыханию.
— Тяжело тебе, Коля… скажи, мой родной!
— Ты, папа, не беспокойся. Я скоро буду здоров! — ласково улыбался в ответ мальчик, — день, два полежу в постели и встану… опять вместе учиться будем… Вот ты не лечишься — это нехорошо, папа! — серьезно добавил ребенок. — Тебе непременно надо лечиться… Ты будешь лечиться?..
— Буду, буду… непременно буду.
— Ты лечись у другого доктора, а не у того, который меня лечит. Этот какой-то нехороший, все улыбается да смеется с мамой… Как ты полечишься, то будешь такой толстый, здоровый… кашля у тебя не будет… Правда ведь?.. — оживленно болтал ребенок, возбужденный лихорадкой.
О господи! Каким нежным, теплым чувством охватывалось наболевшее сердце отца. Под звуки этого детского лепета, казалось, горе уходило куда-то далеко, далеко, и на глаза невольно навертывались слезы радости и раскаяния за то, что он слишком много думал о себе, хотя и уверял себя, что думает о сыне. Он любил его недостаточно сильно… Нет! Никогда не оставит он своего мальчика, что бы впереди ни было, какие бы испытания ни сулила ему жизнь. Он все вытерпит, все перенесет для сына… Он и без того ради него терпел, но этого еще мало. Что он без него, без этого ребенка? К чему тогда и жить?.. Ведь только осталась одна цель, серьезная цель: воспитать своего мальчика, сделать из него хорошего, честного человека, который сумеет бороться и выйдет из житейской борьбы не такой искалеченной тварью, какой вышел он. Если отец неудачник, «настоящий неудачник!», — грустно улыбнулся Трамбецкий, то зато он, вот этот крошечный мальчик, не будет таким. Он не погубит себя в добрых намерениях и в бесплодной борьбе с женщиной.
Так думал отец, слушая возбужденные речи своего любимца и отвечая на них словами горячей любви и ласки. Так говорили они несколько времени, и, казалось, оба черпали во взаимной любви новые силы.
Громкий звонок в передней смежил их уста. Раздался свежий женский голос, и вслед за тем пронесся тихий шелест платья в соседней комнате. Отец и сын вдруг присмирели и почему-то взглянули друг на друга. Особенно серьезен стал взгляд мальчика.
Валентина Николаевна тихо подошла к постели с тою особенной грацией и томным видом, с которым обыкновенно входят женщины в комнаты, где лежат больные. Она склонила голову над постелью ребенка, улыбнулась ему ободряющей улыбкой, слегка дотрогиваясь до головы.
— Ну, как мы? Посмотри — нравится тебе? Она подала сыну ящик с игрушками.
Ребенок взял ящик, положил около себя и проговорил тихо:
— Благодарю.
— Что ж ты не говоришь: нравятся тебе игрушки?..
— Нравятся, мама! — еще тише проговорил мальчик и закрыл глаза.
— Он спать хочет… У бедняжки сильный жар! — заметила Валентина Николаевна, видимо не зная, что затем делать: оставаться ли у ребенка или идти в комнаты.
А солнце, как нарочно, врывалось яркими лучами и раздражало молодую женщину… На улице так ярко, хорошо, весело, а здесь… здесь так скучно: угрюмое лицо тирана мужа, больной ребенок и запах лекарства. Она любила Колю, но любила его здорового, веселого, нарядного, когда, бывало, она гуляла с ним или каталась. Она часто целовала его урывками, кормила конфектами и иногда забывала его по целым дням. Но когда бывали гости, она всегда на несколько минут сажала мальчика, разодетого и напомаженного, к себе на колени, прижимала его щеки к своим розовым щекам, трепала маленькой выхоленной ручкой и осыпала поцелуями. Это была такая трогательная картина, что гости нередко любовались и находили эту добрую мать с ребенком на руках еще пикантней…
Впереди еще объяснения… Ах, как хотелось ей, чтобы не было никакого объяснения, чтобы жизнь ее текла весело и нарядно, чтобы муж — этот ужасный человек, сгубивший ее молодость, не нарушал спокойствия жизни своим видом, своими притязаниями… Она его не любит, к чему ж он стесняет ее свободу, свободу женщины?..
Когда дело касалось свободы женщины, Валентина Николаевна морщила свой лоб и принимала