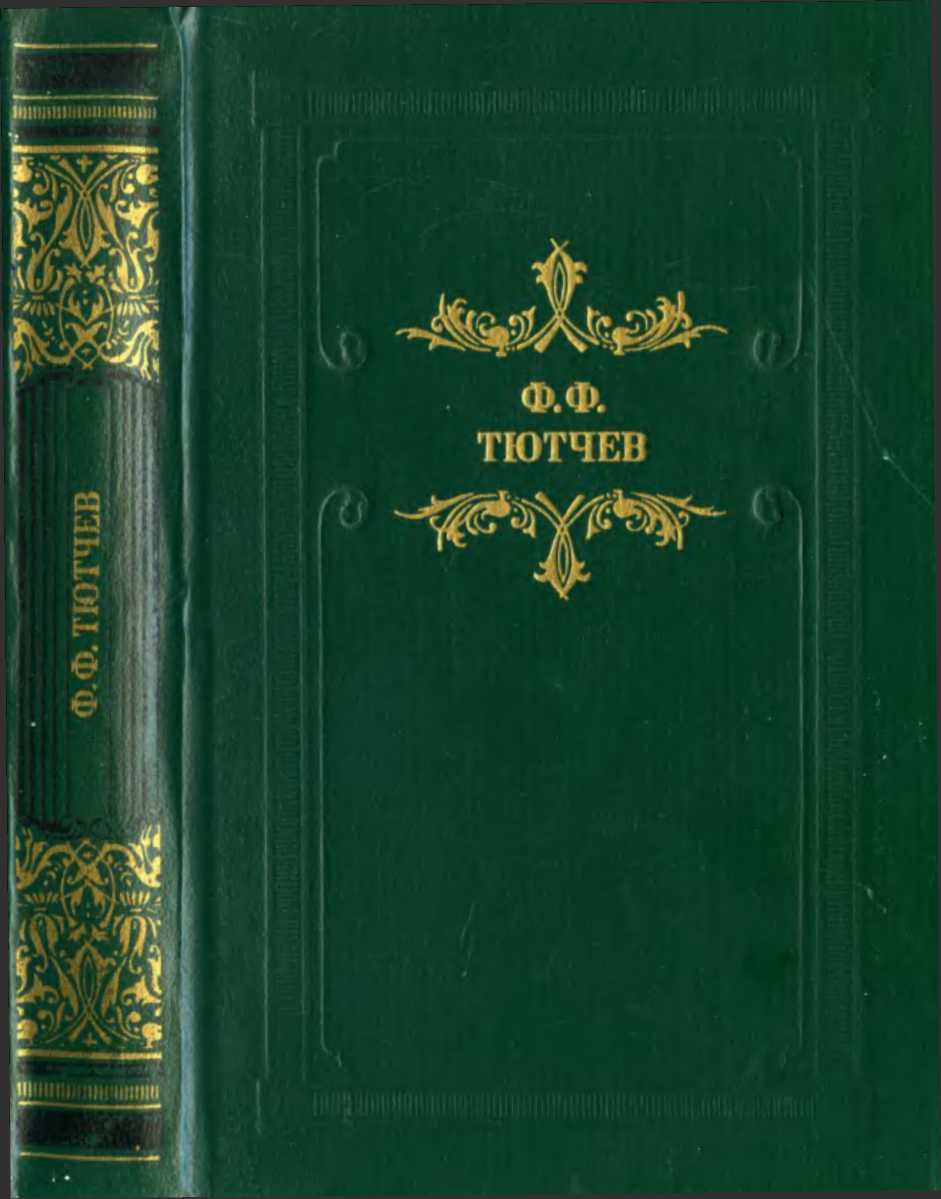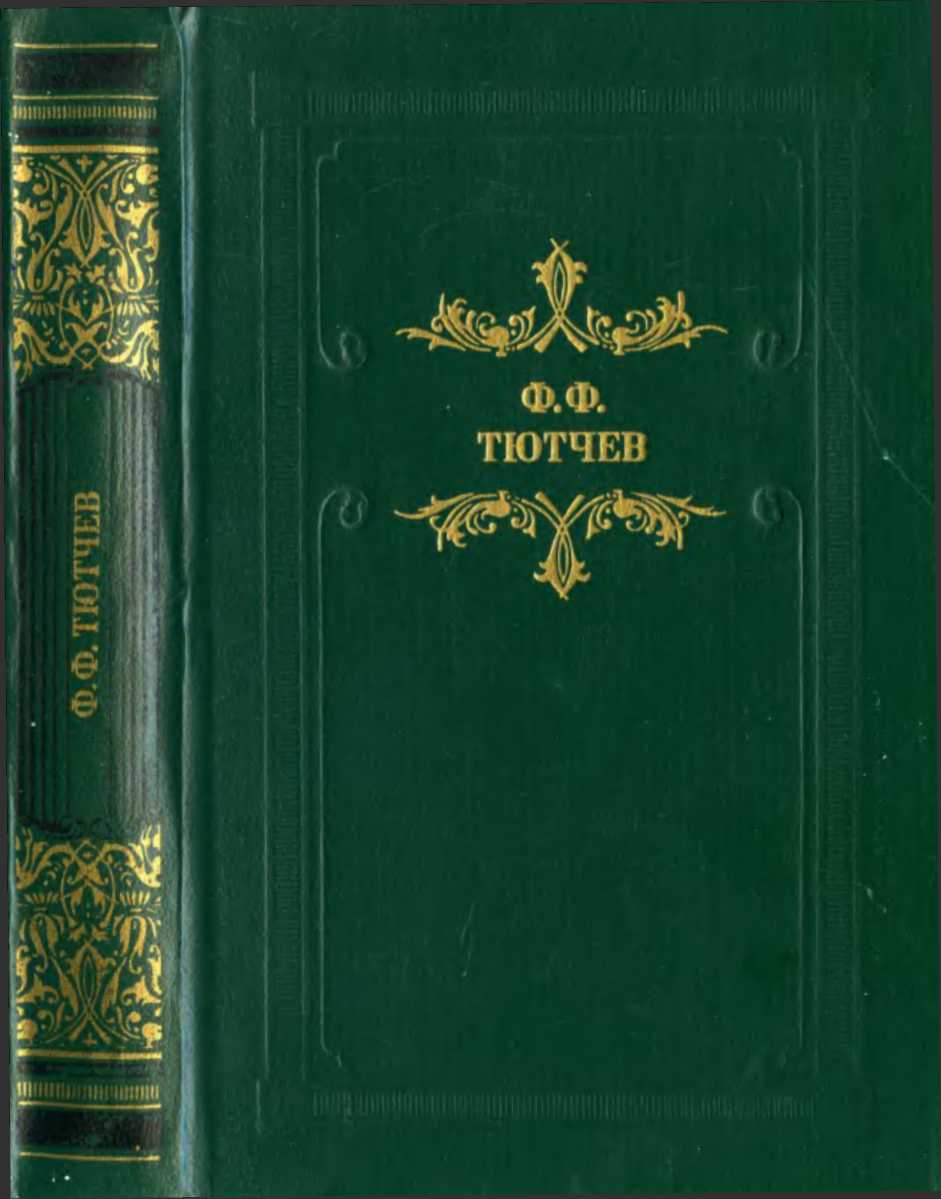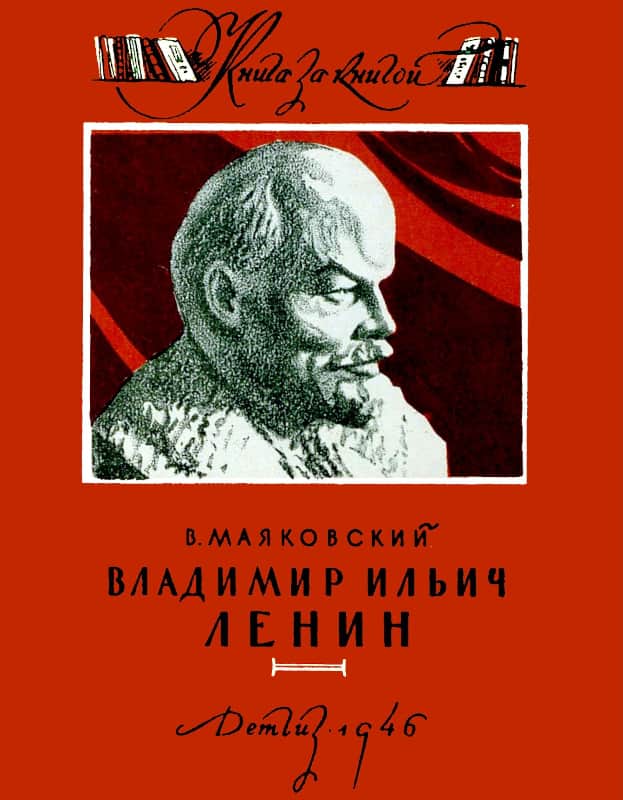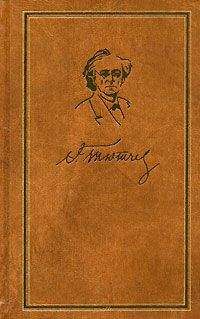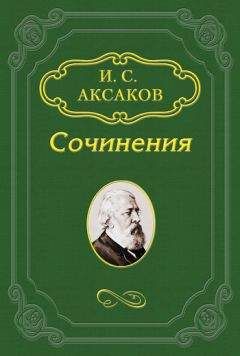Ну, а теперь проваливайте! — и она сама заперла за мною дверь.
Но не на этом одном основывались мои надежды, меня поразила больше всего ее фраза, сказанная незадолго до моего ухода.
— Есть женщины,—сказала она,— очень осторожные, долго не сдающиеся, подвергающие сначала тех, кого выберут, строгому испытанию, помня всегда, что только то и ценится, что дорого дается.
«Уж и ты не из таких ли?» — подумал я, пытливо заглянув ей в лицо. Не знаю, угадала ли она мои мысли, но только почему-то улыбнулась, и, как мне показалось, весьма загадочно.
Итак, переступая на другой день порог слишком хорошо известной мне квартиры, я был в некотором ожидании; однако начало приема не предвещало ничего особенного. Вера Дмитриевна встретила меня, по обыкновению, полушутливо, полуравнодушно, с своей неизменной ласковошутливой усмешкой.
— Как кстати, нам сейчас подадут чай, я только вас и ждала.
Каждый наш вечер обыкновенно начинался с чая. Это вошло у нас чуть ли не в обычай. Но на сей раз предложение чая, только что я, как говорится, господи благослови, успел переступить порог, раздосадовало меня. Не чая я ждал, идя сюда.
— Знаете, Вера Дмитриевна,—заговорил я резко,—вы, может, думаете, я только ради чая хожу к вам, чай у меня и дома есть.
— Но чем же мне вас иным угостить? — с напускным наивным недоумением спросила Вера Дмитриевна. — Вы, может быть, проголодались, постойте, не осталось ли у нас чего-нибудь от обеда, ах да, кажется, телятина осталась, позвольте, я сейчас схожу, узнаю! — И раньше чем я успел удержать ее, она выпорхнула из комнаты, а минут через пять передо мною уже стояла горничная с большим подносом в руках, на котором красовались приборы, графинчик с водкой, рюмка, хлеб и нарезанная тонкими ломтиками холодная телятина.
В первую минуту я чуть было не поддался искушению швырнуть все это к черту, но, сообразив, что было бы глупо разыгрывать сцены перед горничной, сдержал себя и даже имел настолько хладнокровия, чтобы принять от нее и расставить перед собою все принесенное. Тем временем Вера Дмитриевна как ни в чем не бывало опустилась против меня на диван и только по сдерживаемому трепету ее губ и коварному поблескиванию глаз я мог заключить, как зло смеялась она надо мною в эту минуту, от всего сердца потешаясь моею бессильной яростью.
— Вы думаете это остроумно? — мрачно спросил я ее, по уходе горничной.
— Я только, согласно евангельскому учению, за зло плачу добром.
— Что вы хотите этим сказать?
— Ничего особенного, за вашу вчерашнюю дерзость я сегодня угощаю вас телятиной, разве это не христианский подвиг?
— А, гм... понимаю, но знаете ли вы, кто вызвал эту дерзость? Знаете ли, что я скоро с ума сойду, если не сошел.
— Вам в таком случае следовало бы посоветоваться с каким-нибудь психиатром.
— Старая шутка, и к тому опять же не остроумная.
— Вы сегодня любезны.
— Может быть. Впрочем, я и не пришел для того, чтобы говорить вам любезности, мне наконец нестерпимы стали ваши постоянные насмешки, и я хочу знать раз навсегда, по какому праву вы издеваетесь надо мною? Неужели вы не понимаете, как это безжалостно, бесчеловечно, да наконец даже безнравственно. Не делайте таких удивленных глаз, вы отлично понимаете, о чем я говорю.
Как сорвавшийся конь бежит сам не зная куда, заботясь только о том, чтобы как можно скорее убежать подальше от своей коновязи, так и речь моя лилась без удержу, без связи, порой даже без смысла. Я торопился высказать все, что накипело у меня в душе за последнее время, мало даже заботясь о впечатлении, производимом моими словами.
— Скажите только одно слово, и я брошу все, отрекусь от семьи, пренебрегу всем и пойду за вами...
— Куда? — совершенно спокойным тоном осведомилась Огонева.
— Куда? — опешил я несколько от неожиданного вопроса.—Да хоть на край света, всюду, куда прикажете.
— Зачем так далеко, идите лучше домой и выпейте сельтерской воды, это вас несколько охладит.
— Прекрасно, но это не ответ.
— Какого же ответа вам надо, да и что я могу ответить на такую чепуху, вы бы и сами себе не сумели ответить.
— В таком случае, прощайте.
— А телятина? Вы ее еще и не попробовали.
— Кушайте сами на здоровье, а мне надо идти.
— Не смею удерживать, тем более что у вас, как у отца семейства,— она умышленно подчеркнула этот эпитет,— наверно, есть дела дома.
— Вы правы — я и то последнее время слишком мало думаю о семье.
— Это нехорошо, — серьезнейшим тоном заметила она.— Ах да, кстати, говорят, ваша жена большая кокетка и очень хорошенькая собою, правда это?
— Насколько она хороша собой или нет, не мне судить, что же касается кокетства, то я знаю одну барыню, у которой жена моя могла бы смело брать уроки. У той кокетство возведено в культ, для нее оно все, и ради удовлетворения Этой своей прихоти она готова довести человека до преступления.
— Это уж не я ли?! Ха-ха-ха,— рассмеялась Огонева.— Но ведь это прелесть как мило, за это я должна вас наказать: вы обязаны будете проводить меня к Львовским, у них сегодня вечер. Подождите меня минуточку в зале — я сейчас переоденусь.
В первую минуту я хотел было грубо отказаться, но какая-то необъяснимая сила удержала меня. Я машинально вышел в залу и остановился подле рояля. В голове моей был целый хаос. Припоминая свои фразы, я с досадой должен был сознаться, что большая часть из сказанного мною была ни к селу ни к городу. Я наговорил целый ворох всякого вздора, а того, что нужно было высказать, не высказал, или если и высказал, то не так, как бы следовало.
Шелест шелкового платья вывел меня из задумчивости. Я оглянулся. Передо мною стояла Вера Дмитриевна в изящном черном платье, с белыми китайскими розами в волосах и на корсаже немного открытого спереди лифа.
Никогда еще не казалась она мне такою привлекательною, как в эту минуту.
— Вы просто демон, Вера Дмитриевна,— невольно сорвалось у меня с языка,— не знаешь, право, ненавидеть или боготворить вас. Только все-таки же,— спохватился я,— провожать я вас не поеду и сюда больше никогда не приду. Прощайте.
— Нет, постойте, вы непременно должны проводить меня. Слышите, должны. До Львовских очень далеко, и мне