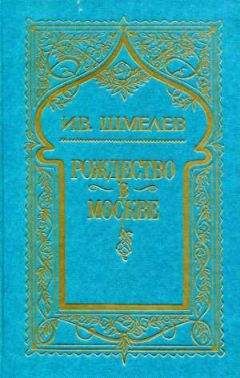Ознакомительная версия.
– Все преувеличил, негодяй… все извратил!.. – вскричал профессор с острой болью, – было… пустяки, как шутка… надо ж так заплевать все!.. Я давал уроки, посылал матери… эти «службы», для успокоения религиозной тетушки, которая столько для меня… отнимали время… я не мог все на ее плечах… давал уроки… и она, поняв, мне помогала, добавляла… Все извратил гад!.. Да, я не верил, вынуждал себя… для ее покоя… только для ее покоя, а не для… извратил, подлец! извратил, как все!..
– Ну, игра ума, а суть-то та же. Что?! Глазки в передничек, как «папа-мама»? Постиг ин-дукцию? Но я великодушен. За «по-бегушки» для меня вот три презентика, обогащайся. Первый: ты вдрызг бесснастный и посему бессилен оплодотворять… дарю совет: лечись! да вот, досада… слишком поздно. Второй: займи хоть у Микиты на монетку его сверх-логики! ах, нет под рукой Микиты! И – последний: свешивай почаще русую… пардон, седую! – голову к груди, где инструментик… «угрызений» им меряется, говорит, все очень точно! но… – анкор эля! – там так же пусто, как в этом логове, ан-тичном, хе-хе-хехе-э…
Профессор проснулся от «толчка». Часы указывали – 2.
– Ф-ф… ко-шмар… – с трудом передохнул он, нашаривая нервно папиросы… где они?!.. – Ффу… грязь какая!.. – и стал креститься.
Весь дрожа, он сунул ноги в туфли, надел халат. Но… что же надо…? Вертелось в мыслях, что-то надо было… что-то сделать… что?… По привычке он подошел к столу, «занести мысли». Узнал свою работу, стал листать, привычно-бегло… и вдруг, найдя что надо, схватил перо и в дрожи, прорвав бумаги, написал размашисто, во всю страницу – ЛОЖЬ! Сгреб комом, бросил об пол и стал топтать. И повторял, как исступленный задыхаясь…-
– К черту!.. к черту!.. к черту!..
Никогда я не заводил записных книжек: не было терпенья-воли записывать. Думалось, – удержит память, чему надо удержаться. Теперь жалею: много пропало слов и мелочей. В этом рассказе какие-то «слова» уплыли, – лиц, пожалуй, «исторических».
Рассказывал мне Вересаев, автор «Записок врача», в Москве, летом 22 года. Рассказывал со слов шурина, Смидовича, видного большевика. Смидович только что был у Троцкого, в «Ильинском», былой резиденции вел. кн. Сергея Александровича. По Вересаеву, шурин возмущался происшедшим: «черт знает… престиж роняют, дурачье!»
Не помню точных слов Вересаева, а он делал «примечания». Говорил не только о сыне Троцкого, «выкинувшем штуку», но и о детях шурина: «ахают, какие вызревают „фрукты“… сами родители не сладят». Подробности о «фруктах» ускользнули из памяти: что-то совершенно дикое, в отношении к людям, к жизни… – «очень далекое от „идеалов“ папаши».
Вот что случилось в посещение Смидовичем «Ильинского».
Сын Троцкого, мальчишка лет двенадцати, завел «потешных», как Петр. Разумеется, с одобрения отца. Все к услугам: верховые лошади, оружие, средства… – имперского масштаба. Без сверстников, хоть и подвластных, скучно. Мальчишки и девчонки с. Ильинского ходить к «барчуку» боялись, не как их отцы и матери, бывало, приходившие играть к детям вел. кн. Павла Александровича. Сдерживали и родители: «нечего вязаться с ними». Родителям, говорят, внушали: «к вам, дурачье, идут навстречу… теперь ра-венство!» Стали приманивать сластями. На сласти потянуло: набралось человек двадцать, мальчишек и девчонок. Троцкий-младший командовал: говорил, следуя примеру, «зажигательные речи», «объезжал фронт», ему отдавали честь. Троцкий-старший любовался. Ружейные приемы, маршировка, построенья, стрельба, атаки… – как полагается. Было и обучение «словесности».
На одном из уроков командир объявил, что – «никакого Бога нет». Это уже слыхали. Из церкви с. Ильинского уже были изъяты «ценности», но церковь еще не закрыли, народ молился, и ребят водили. Кой-кто отбился, по словам батюшки: после рассказа Вересаева я был в с. Ильинском.
А произошло вот что.
Командир объявил, что завтра он на опыте покажет, что – «Бога нет».
– «Завтра все приходите, увидите!»
Ребятишки ли испугались, или матери им заказали, но только на «опыт» пришло лишь человек пять.
– «А где же все?..»
– «Мамки не пустили… и боятся».
– «Дурачье!..»
Повел на «княжью пристань», на пруд. Велел садиться в «княжью лодку». Посажались. Велел грести на середину. Пруд большой, глубокий. Выплыли на середину, ждут, с опаской. Командир – бесстрашный. Поднял с сиденья крышку и вынул… икону Богородицы, – «великокняжескую», возможно: великая княгиня иконы почитала, много их было у нее в моленной: возможно, что во дворце некоторые иконы сохранились к водворенью Троцкого.
Увидав Икону, ребятишки притихли. Командир смеялся:
– «Что, струсили?!.. А я вам докажу: утоплю икону, – и ничего не будет! На деле убедитесь, есть ли Бог!..»
На глазах всех, притихших, сам обвязал икону сахарной бичевкой, натуго, а к концам привязал кирпич: обвязал крест-накрест, попробовал, крепко ли бичевка держится.
– «А теперь глядите… Раз, два, три… пали!» И – бух! – швырнул Икону в воду.
По словам батюшки – «ахнули ребята»! Сидели, вероятно, – «ни жив, ни мертв». Может быть – наверное даже, – ждали: «как же Бог-то..?!..»
Расходились по воде круги…
«Что видали?!.. – крикнул командир, окидывая все победно. – Вот вам, дурачье, нагляднейший урок, что никакого…»
Но не докончил: вы-плыла Икона! Это удостоверил сам Смидович своему зятю, Вересаеву. Правда, удостоверил без смущенья:
– «Разумеется, кирпич сорвался или оборвался». Пусть так. А, на глазах ребят, Икона вы-плыла.
Тут самый, должно быть, бойкий крикнул командиру:
– «Врешь, с…!.. – с прибавкой буквы „с“: – Есть Бог!..»
И – командира… в ухо. Возревновал. Тот досмерти перепугался, смотрел на воду.
Икона, обвязанная, как была – «сияла в солнце». Так говорили ребятишки, – передавал священник. Командир все смотрел… Но все же осмелел, велел:
– «Греби к иконе!..»
Но гребец вел к берегу… только не к «княжьей пристани», а к дальнему, откуда ко дворам поближе. Как ни взывал командир, – «к нам, черт!., к нам!..» – лодка плыла своей дорогой. Ребятишки повыскакивали еще до берега, помчались – кто куда.
На другой день «во дворце» узнали. Было следствие. Смидович при сем присутствовал. Троцкий был взбешен, обругал сына дураком. Про «ухо» будто бы сказал: «так дураку и надо… достиг обратного!»
Пруд весь изъездили. Иконы не нашли. И не мудрено: ночью ее принял вплавь, на середине пруда, матрос-порт-артурец, поведал батюшка, – отец возревновавшего мальчишки. Где та Икона – неизвестно.
Время придет – объявится.
Май, 1947
Париж
Лет за пятьдесят. Москвич. Много читает, мыслит по-своему, непроторенными путями. Вдумчиво-замкнутый, – как бы вглядывается в свое.
Помню, говорили о Москве, о некоем астрологе, который собирается ехать туда невдолге. Мой собеседник, что-то вдруг уловивший в себе, прерывает разговор и как бы вспоминает:
– Да… почему-то ему так видится по гороскопу. Таинственная область… Конечно, странно эта… – «невдолге»!.. Но вот… как вы отнесетесь к одному случаю из
моей жизни..? Впрочем, не один только случай: были еще. Что мне… лет 17–18 было, до войны. Жили на даче, в «Богдановне», близ Кунцева, под Москвой. Дня три, как переехали на дачу. Никогда раньше здесь я не бывал. После уже узнал, что все это место – бывшая вотчина Нарышкиных, по р. Сетуни. У Забелина есть книжка «Стан Сетунь»… – тут уже прочел ее, – про вотчину Нарышкиных.
– Помню, гулял я с родными по р. Сетуни, в старой березовой роще. Тогда я учился в училище Живописи, Ваяния и Зодчества, интересовался архитектурой XVII века. Не помню, о чем я тогда думал, на прогулке… об историческом, кажется, не думал. И вот, кто-то из компании говорит: «смотрите, какой странный камень… будто могильная плита!» И я вижу, шагах в пятнадцати, в березах, длинное возвышение, как плита, темно-зеленое, мшистое…
– И, вдруг, ни с того ни с сего выкрикнулось из меня!.. – вот именно, без всякой мысли об этом, невольно как-то: «это боярина Матвеева!..» Выкрикнулось совсем спокойно, без колебания, но и без уверенности… совсем непроизвольно, безразлично, свободно, отлично помню и сейчас, что – совсем свободно. Все засмеялись – «он и на похоронах был!..». Но заинтересовались, обступили «плиту». Она крепко поросла плюшевым мохом, густым и гладким, каким обрастают камни в сырых местах. Все стали отдирать мох, смеясь: «что тут за „Матвеев“..?» Давний мох отдирался туго, с подтреском, клочьями, как шкурка. И я ревностно отдирал, как бы ища. Действительно, – плита, и проступили высеченные крупно буквы… мы могли разобрать лишь – …МАТВЕЕВ… – другие знаки были неразличимы. Все закричали: «он знал раньше!..» Я был очень изумлен, почти смущен: как же я мог узнать?!
Ознакомительная версия.