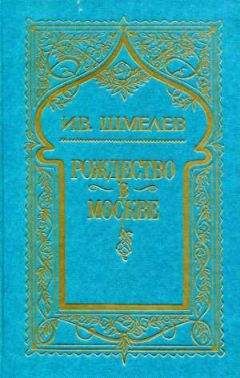Ознакомительная версия.
Из слухов, ходивших среди музейских, узналась «вся история».
«Ответственная» сначала «немножко растерялась, но взяла себя в руки», велела старику отдать ей мешок: «с вещами у нас нельзя!., как тебя пропустили?!..» Старик отмахнулся головой и сказал «упрямо»: «не, не дам я тебе мешка!., это Батюшке Серафиму, память». Она оставила: «что требовать с такого!..»
Подойдя к указанной витрине, где были «останки из Сарова», старик трижды перекрестился и положил три земных поклона. «Ответственная» хорошо не помнила, смотрел ли старик за стекло… – «кажется, поглядел». Но заметила, что в его бороде блестели слезы… Говорили, что, по ее словам, – «досадно ей как-то было… жалкий, темный народ!»
Положив поклоны, старик снял со спины мешок и стал развязывать… Она сейчас же ему сказала, возвысив голос: «что..?! что ты?!., нельзя у нас!..» – не знала, что вынет он из мешка, но чувствуя «что-то недопустимое». Старик отмахнулся, хрипнул что-то такое вроде… – «ну, тя..!» – схватил мешок за углы и вытряхнул под витрину, на пол… – «е-лки… и какие-то шишки!..» Она крикнула на него – «нельзя!., тут у нас не базар!..» Старик – словно и не слыхал: ткнулся головой в елки, «потрясся там»… и, стоя на коленях, – «стал тянуть, жа-лобно-плак-сиво»… – передавали музейские шепотком:
«…роди-мый ты на-ш… Ба-а-тюшка Серафи-им… пришел к тебе… Ваню-шка-а… по-мню… го-лу-бчик ты на-аш… Ба-атюшка Серафи-им… Угодник Бо-о-жий..!»
«Ответственная» ясно видела, как по его «страшному изможденному лицу градом катились слезы…» Все же она строго выговорила ему, – что – «это у нас никак нельзя!., что это?! к чему это?!..»
Старик… – «конечно, понял по-своему, наивно…» – и едва выговорил вдруг посеревшими губами, «ласково как-то даже, совсем по-детски… бесцельно было, конечно, такому, что-нибудь втолковать…» –
«Еловые лапы это… с самого борку Батюшки… любил Батюшка свой борок… па-мять наша… в память это ему, по маменьке…»
Покрестился, едва поднялся – и побрел, нетвердо, волоча свой мешок.
Барышня-пробивалыцица увидала старика – «совсем изнеможенного, желтого-желтого, как покойник…» – перепугалась: ну-ка, он тут помрет! – и, усадила его на стул, видя, как он мотается. Он сел и разинул рот… воздуху не хватало, «свистело в нем». И вот тут она подала ему воды, но он не принял. Потом, путаясь пальцами, долго складывал свой мешок, приглаживая его ровней, – сунул за полушубок. Когда чуть отдышался, стал нашептывать, себе будто, что привел Господь… поклониться Батюшке Серафиму… Преподобному… теперь спокойно пойдет домой. И так благодушно огляделся… Она спросила: «а что же с мешком..? почему пустой?..» Он будто улыбнулся, все головой покачивал, чего-то думал. Досказал, спокойно совсем, будто гляделся в свои думы: «стро-га-а… а ничего… ничего… кричит свое – „выкинем, сожгем!..“ – что ж… ничего… ты свое делай… чего тебе велят… а я свое… сделал… маменька покойная… наказывала… тута вот…» И стал потирать у сердца.
Расстроился, что ли, с дум своих… – захлюпал. У барышни, сказывала она, «сжалось сердце». Горько было, что и воды от нее не принял. Помнила его слова: «не… там снежку пожую…» Она не обижалась, чувствуя, почему он не принял и так сказал… но ей было не по себе.
Поотдохнул и пошел, сказавши: «прощай, милая…» Долго вспоминали об этом посещении, потом забылось.
Не прошло года, было в самом начале августа. Та же барышня вдруг опять увидала старика. Он был в том же полушубке, в лаптях, с мешком. Стал, кажется, еще старей и слабей. Она напомнила ему, и он признал ее. На ее вопрос: «с елочками?..» – сказал: «да, милая… еловые лапы, Батюшке Серафиму». Намачивал дорогой, не посохли чтобы, не пообсыпались.
Было как и в тот раз: поклоны и «память-радова-ние» – еловые лапы и сосновые ветки в шишечках. Никто там ни слова не сказал старику. Он ушел с миром, благостный. Ласково сказал барышне: «ну, милая… прощай».
Больше не приходил.
Июль, 1947
Париж
Барин Н., законник, потомок видного деятеля по освобождению крестьян, увидал однажды у жены бумажку волостного правления, такого «дикого» содержания:
«…отдаю барыне Н…, в полное крепостное владение, трех моих сыновей, навечно. За неграмотного… расписался…» и печать, копотью.
Барин взглянул удивленно на жену. Она спокойно сказала: «оставь, это наше дело». Раз так, значит, – так и надо: он не мешался в дела жены, женщины рассудительной.
Так оно и оказалось. Отдавший сыновей в «закрепощение» барыне, был отъявленный пьяница и лиходей, что называется – «хомут на миру»: не раз собирались удалить его из общества, приговорить к выселению в Сибирь, но барыня заступалась, по слезной мольбе бабы лиходея. Наконец, не стало сил и у бабы: молила барыню взять ребят на себя, «а то смертью убьет, злодей… бьет, чем ни попади, печкой только не бил!..» И барыня придумала «закрепощение». Лиходей получил сколько-то и отступился, скоро и освободил всех: замерз, пьяный, – а трое мальчишек и баба были взяты в усадьбу.
Мальчишки сами выбрали себе дорогу в люди: старший отдан был конюшему, и вышел из него хороший кучер; середний обучился садоводству; а младший, Лазарь, захотел к повару, и стал отличным поваром.
Пришла война, а за ней и революция. Господа перебрались к дочери в Москву и скоро померли. Дочь-вдова, жившая в богатой квартире, была уплотнена и обездолена. При ней остались старушка няня и дворецкий, верные: ютились по углам в том же доме и выменивали на пропитание остатки барынина добра. Тем трое и влачились. А жизнь становилась беспросветней.
И вот как-то приходит няня и говорит:
– Барыня, Лазарька наш сыскался!..
Не помнила барыня, какой «Лазарька». Напомнила ей старушка няня: еще все дивились в именье, какое сладкое умеет готовить Лазарька, совсем мальчишка!
– Разыскал нас… давно искал! Хороший такой, франтом… у американцев служит… на глаза хочет показаться, ждет на дворе.
– Что за чудеса!., зови, зови… – обрадовалась барыня; помнила вихрастого поваренка, которого Листратыч-повар называл – «золотые руки».
– И жарко-е с собой принес!.. – радостно шептала няня, дивясь, – цельную, говорит, индейку!., и под серебреной крышечкой!..
– Что за чудеса!., у американцев?!
– Да вот, увидите.
Никогда бы не признала барыня стоявшего перед нею, с блюдом под мельхиоровой крышкой, статного молодца, совсем военного: в крагах, френч с клапанами, часики на руке: только вихор да веселые-бойкие глаза напоминали ей поваренка Лазарьку: а то – ну, совсем американец.
– Здравствуйте, барыня!.. – весело сказал «американец», – не узнаете? А я вас помню. Еще полтинник мне как-то подарили… кошелечек у вас был кольчиками, серебряный!..
Барыня вспомнила, – и у нее навернулись слезы. Она взяла Лазарьку за плечи, будто совсем родного, и, говорить не в силах, усадила на стул, с собой. И все смотрела ему в глаза. И через эти глаза – все видела… А он, поставив на столик блюдо, стал рассказывать, как пошел счастья искать в Москву и как далось ему это счастье, – сразу попал к американцам, в «Ару», – к самому главному! – женщина одна попалась на вокзале, наша: разговорились, – сразу все и устроила, тоже у американцев служит.
Долго Лазарь барыню по Москве искал, фамилию только помнил. И вот нашел. Живется – нельзя лучше: полное пропитание, хорошо платят, как сыр в масле катается.
Смотрели на Лазаря, дивились. Он подошел к столику, поднял покрышку с блюда…
– Вы, барыня, не сомневайтесь… все в порядке. Это не в украдку, а сам економ дозволил. Я ему доложился, а наша барышня; горничная у них… по-их и объяснила. Можно, говорит… и по плечу потрепал. Теперь я вам буду предоставлять. Как у Дистратыча-покойника… и гарнирчик, и зажарено в меру, только апельсиновое они варенье любят… а весь гарнир наш, полный.
Индейка еще «дышала»: в согревалке доставлено, в американской.
Тот день явления Лазаря был как бы «светлый день».
Как сказал Лазарь – так и сделал: в праздник или в воскресенье, приходил к барыне и приносил разное жаркое и сладкое. Няня и дворецкий хаживали к нему, там их угощали и навязывали с собой. Жилось Лазарю – лучше и не придумаешь. Понравились старики американцу економу, и он распорядился давать им чего хотят.
Так прошло с полгода. И перестал Лазарь приходить. Пошел дворецкий узнать, что с ним. Оказалось, что Лазарь уже не служит в «Ара»; забрали его в солдаты и куда-то угнали из Москвы. Сразу вышло, не довелось Лазарю и попрощаться.
Прошло с год. Наведывалась няня к американцам. Говорили свои, что и они скоро «сматываются». О Лазаре были вести скудные, – на Волге где-то. Барыне так и не написал. Решили, – нет ничего хорошего, оттого и не пишет.
Как-то приходит няня от американцев и говорит – заплакала:
Ознакомительная версия.