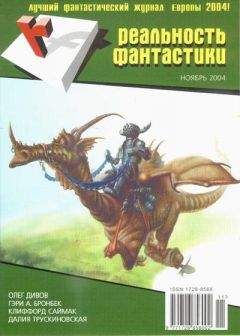Тем не менее там было, по-моему, несколько сцен достаточно выразительных. И разумеется, рухнувший дом был метафорой, за этим читалось что-то другое, более общее, даже крамольное. Так стреляло в нас наше прошлое и настоящее со всем неправедным, что в нем было. И человек, который маялся и казнился по этому поводу, был я сам, были мы с вами... Беда лишь в том, что к моменту выхода фильма, а это был 1986 год, эти терзания уже мало кого могли взволновать, метафора потеряла свой смысл в соседстве с грубой правдой, всем сразу открывшейся. То, чем мы дорожили, к чему стремились, чем мерили успех - актуальность, смелость - оказывались, в общем-то, пустым звуком.
Мне это еще предстояло понять.
В Братск я ездил оба раза зимой, в пятидесятиградусные морозы, там они, кстати сказать, легче переносятся, чем в нашем влажном климате; а еще переносятся легче, когда ты молод, и даже житье в бараке-времянке, с буржуйкой, на раскладушке, когда кругом тайга, а в комнате с тобой человек двадцать,- и то не в тягость. Я помню эти времянки на "трассе", и как там жили, и это радио на полную громкость, не умолкавшее в течение всей ночи и никому не мешавшее, запомнилось до сих пор. Поражала выносливость этих людей, уже и не очень юных, успевших покочевать по сибирским городам и стройкам, их равнодушная неприхотливость и, конечно, здоровье. В этих, как хотите, экзотических условиях они жили не неделю, не месяц, а целую зиму, затем еще и весну и лето со страшным таежным гнусом, и потом еще следующую зиму, и это было не наказанием за правонарушения, а как бы даже отличием и честью - их провожали с музыкой и речами, и тучи корреспондентов слетались, чтобы восславить их жизнь в условиях, непригодных для жизни.
Эта неприхотливость наших людей была в своем роде предметом патриотической гордости. (Особенно трогательно звучали голоса патриотов из столичных благоустроенных квартир). В этом видели знак величия, хотя можно было и прямо наоборот - знак вечного унижения и рабства. Во всяком случае, гордиться тут было нечем.
Как мы этого не понимали!
Как не видели и другого: сотни тысяч, если не миллионы, стронутые со своих родных насиженных мест, пересаженные на другую почву, скопившиеся на вокзалах, на пересадочных станциях, бросившие якорь где попало,становились бедствием для нации и страны. Эта великая миграция - от ГУЛАГа, положившего ей начало, и до наших дней - и привела к падению нравов.
Мне могут возразить: а как же Америка? Но в Америке цена жизни, надо полагать, другая. У нас же люди, отторгнутые от своих вековых очагов, отрезанные от корней, от дедов и бабок, люди без недвижимого имущества, с узлом и чемоданом,- становятся беспризорной массой маргиналов, и тут даже можно понять моего Кампанеллу из Волгодонска с его Городом солнца, где все враз обедают и готовят уроки.
Ни в песнях, ни в фильмах про "голубые города" не сказано всей правды.
Не видели? Не задумывались?
Это был один из тех мифов, на изжитие которых должны были уйти годы; из тех, что сопровождали тебя с первых шагов, с первого урока в начальной школе, как азбука и таблица умножения. Тут даже не было сознательного самообмана, обдуманного компромисса, ничего подобного. Просто - не приходило в голову, как ни грустно в этом признаваться.
Говорю по крайней мере о себе. Вероятно, есть среди нас люди, которые всегда всё понимали. Но я таких, честно скажу, не встречал. В моем поколении уж точно. Так, чтобы - всегда и всё. Может быть, я ошибаюсь. Тем интересней, наверное, и это заблуждение, одно из тех, о которых я и хочу поведать сегодняшнему читателю - будем надеяться, свободному от заблуждений и предрассудков.
Итак, предрассудки. Вот и такой среди них, живучий: мы воспитаны на отношении к "простым людям" - рабочему классу и крестьянству - как носителям истины и кормильцам, перед которыми "прослойка" - интеллигенция в постоянном неоплатном долгу. Сама интеллигенция, как известно, и люди искусства не в последнюю очередь, немало сделали, чтобы утвердить в сознании масс и своем собственном комплекс вины и долга. Недавно я смотрел по телевидению знаменитый некогда фильм "Строгий юноша" - сценарий Юрия Олеши, режиссер Абрам Роом, начало 30-х годов. Там эта идея доведена до вопиющей наглядности: маститый профессор (в этой роли - один из корифеев Малого театра Михаил Климов) добровольно, с сознанием исторической обязанности, уступает собственную жену гегемону-физкультурнику. Вот такой мазохизм, куда уж дальше2.
И ведь все наше старшее поколение, лучшие сценаристы и режиссеры, жили в убеждении, что их собственный человеческий опыт - ничто по сравнению с жизнью других людей, имевших привилегию принадлежать к "простому народу". В этом не раз мужественно признавался уже на склоне лет Габрилович, пробившийся в конце концов через толпу своих героев, сплошь почему-то с простонародными именами-отчествами, к "Монологу", "Началу", "Объяснению в любви", то есть наконец к себе...
Предрассудок этот погубил, как посмотришь, немало замыслов, не дав оформиться одним, исказив другие, а вообще-то говоря, напитав наши творения то там, то здесь едва уловимой, неосознанной ложью. Оставаясь как бы за пределами народа, глядя на него снизу вверх, художник не мог не впасть в подобострастное умиление, или страх, или просто украшательство.
А вот украшательство бывает тоже разных видов. Я не говорю сейчас о рассчитанном вранье. Интересно как раз другое - то, что на уровне подсознания. Этот легкий, почти прозрачный налет неправды, этот бесцветный лак, которым покрыто, хочешь не хочешь, твое честное сочинение.
Иногда тут повинно прекраснодушие автора (ловил и себя на этом), твой собственный откуда-то взявшийся максимализм, когда, скажем, мелкое прегрешение воспринимается чуть ли не как трагедия. Это оно по жизни мелкое, а в микромире твоего сочинения оно вырастает до события, из-за которого расстаются герои. Этот повышенный моральный счет есть не что иное, как обман. Мы создаем некий улучшенный мир, выдавая его за существующий!
У меня в сценарии и фильме "Утренний обход" - работе, которой я не стыжусь,- доктор Нечаев, мой герой, находит у себя на столе в кабинете денежную купюру, оставленную кем-то из посетителей в его отсутствие, так сказать, в благодарность за услугу. Он относится к этому факту с брезгливой иронией, вычислив "дарителей" - мужа и жену, просивших, чтобы доктор подержал у себя в больнице их старушку мать, пока они съездят в отпуск. Тут надо сказать, что гораздо строже, чем мой доктор, расценили этот поступок наши редакторы. И деньги-то были не бог весть какие - всего-навсего четвертной (правда, 1977 года), но нам с режиссером твердо сказали: пусть он немедленно вернет эту купюру, иначе он взяточник. Доктор же отреагировал по-своему: старушку он тут же выписал, назло сыну и невестке, а деньги преспокойно сунул в карман. Вот такая интрига.
Сцену эту мы кое-как отвоевали. В представлении редакторов эти 25 рублей являли собой большой грех, дискредитировавший героя. Автор тоже, конечно, не одобрял поборов, и доктор Нечаев их также не одобрял, правда, без чистоплюйства: он просто видел в этом кусочек той действительности, которая окружала его и которую он вызывающе не принимал. О чем, собственно, и был фильм.
Но, видимо, этот налет чистоплюйства все-таки присутствовал. Лучше бы мне, конечно, не трогать истории с деньгами. Мой ленинградский приятель, хирург, отозвался об этом эпизоде с неподдельным сарказмом. Думаю, что я уронил себя в его глазах. Как-то после этого мне случилось обратиться к нему за помощью, и Юра мой сказал: "Я тебя вылечу, хоть ты и не автомеханик",- имея в виду еще один эпизод фильма с актуальным в то время мотивом "блата".
Конечно, приятель мой брал с больных если не деньги, то подарки, а может быть, и то и другое. И, разумеется, оказывал предпочтение автомеханикам и еще, вероятно, работникам торговли. И если, общаясь с ним, я этого не понимал, то только по дурацкой наивности, непростительной для писателя. А если понимал, догадывался, но как бы игнорировал эту правду в своих писаниях, предъявляя к героям некий другой, повышенный счет, то это отнюдь не лучше. Да ведь и редакторы мои наверняка имели дело с врачами, с больницами и тоже знали, что почем, но, приходя на студию и усаживаясь в просмотровом зале, становились другими людьми - не из этой жизни, а из какой-то иной, воображаемой, долженствующей. Вот в чем дело. О чем я и толкую.
Вообще деньги оказались для советских авторов темой весьма сложной. В отличие от классиков, не брезговавших этой щекотливой материей, мы целомудренно избегали ее, так что порой и критики пеняли нам - мол, непонятно, на что живут ваши герои. Ясно было одно: не в деньгах счастье. Оно, кстати, и верно, но в данном случае народная мудрость была как нельзя к месту и очень устраивала власть: коли не в них счастье, тогда о чем речь? Не в деньгах счастье, и миллионы нас работали за гроши, жили в собачьих условиях, еще и гордясь своей самоотверженностью и презирая буржуазный достаток. "На буржуев смотрим свысока", как сказал поэт.