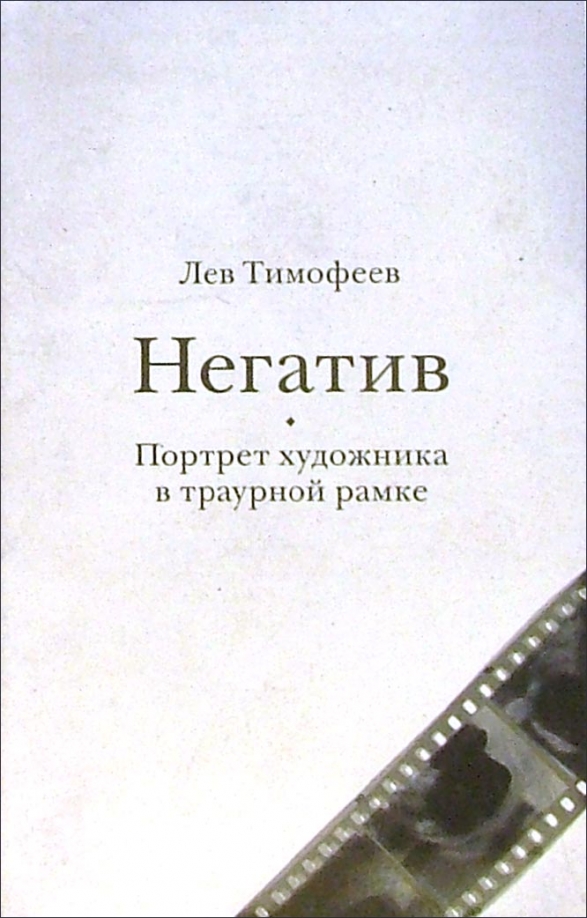на ярмарке, где ряды торговых палаток. Закутаров по-прежнему держит труп на плече, а мать в ближайшей палатке — то ли аптекарской, то ли парфюмерной — покупает какой-то крем или еще другие снадобья, чтобы умащивать тело… И еще они ждут Рабиновича, который должен тоже принести какие-то кремы… Рабинович действительно приходит и что-то приносит в деревянной коробке из-под сигар… Но далее оказывается уже, что мать сидит напротив Закутарова, и держит Евсеев труп, как ребенка, на коленях спиной к себе, слегка обнимая, и кормит его. Она запихивает ему в рот какую-то то ли траву, то ли сено, и он не жует, конечно, и не глотает, и трава торчит изо рта, но мать пальцем запихивает пучок глубже, и он исчезает во рту… Все это вдруг оказывается где-то поблизости от Черноморской набережной, где он некогда впервые увидел совсем юную Дашулю, а если идти по набережной направо, то там начинается какой-то молодежный праздник. Слышен шум и отдаленная музыка. И вдоль набережной дует совсем не морской, но сухой и жаркий ветер, который несет пыль и песок, словно из раскаленной солнцем пустыни… Становится нечем дышать… Закутаров задыхается… и тут он проснулся… Должно быть, он стонал во сне, потому что Джессика (на этот раз он спал дома) тоже проснулась, придвинулась и обняла его. «Ты, милый, не заболел?» — спросила она по-английски. «Нет, — сказал он по-русски. — Я вот лежу и думаю… Боюсь, что нам скоро придется брать детей в охапку и уматывать отсюда». «Какое замечательное слово
— уматывать», — сказала она тоже по-русски и засмеялась.
По бесконечной ковровой дорожке, через придворную толпу, заполнившую три парадных зала бывшего царского дворца — Георгиевский, Александровский и Алдреевский — и сдерживаемую бархатными канатами ограждения, верховный российский правитель прошел легкой спортивной походкой, слегка размахивая левой рукой. Это была его вторая инаугурация, и он, видимо, уже совсем не волновался. Холодным взглядом он смотрел прямо перед собой и, казалось, не видел, не различал никого в аплодирующем ему пестром людском коридоре. Но в последнем, Андреевском зале, поравнявшись с Закутаровым, он едва заметно щелкнул пальцами правой руки. Кроме Закутарова, этот быстрый жест никто не заметил, и, может быть, сам Президент тоже сделал это движение совершенно неосознанно. Но так или иначе, а именно таким жестом — щелчком пальцев правой руки несколько месяцев назад было подтверждено словесное одобрение предложенной Закутаровым предвыборной программы, с какой Президент шел на второй срок. И вот теперь, когда программа так здорово сработала, триумфатор, проходя мимо своего советника Закутарова, словно напомнил с благодарностью о его причастности к победе… Но таким жестом, каким умелые дрессировщики дают команду собаке: «К ноге!»
А может быть, все это только помстилось Закутарову. С какой бы стати Президент теперь оказывал ему особые знаки внимания — хотя бы и такие странные? Никаких чрезвычайных усилий от Закутарова во время выборов на второй срок и не потребовалось, — только обычная рутина, коллективная работа: каждый в команде знал свой маневр, и дело катилось по хорошо накатанной дорожке. И альтернативный кандидат, конечно, не возник. После четырех лет сильного авторитарного президентства ему уж и взяться неоткуда: у «партии власти» всё схвачено — и все общероссийские телеканалы, и основные печатные органы… Хотя мелкая шушера, конечно, полезла баллотироваться. Например, отвязанный еврей, лидер русских национал-популистов Шариковский демонстративно выдвинул кандидатом в Президенты собственного охранника — туповатого и косноязычного малого, — и тот (чудная страна Россия! Или все-таки — Расея?) набрал свои полтора процента голосов!
Закутаров чувствовал, что в политике ему больше нечего делать. Широкая, можно сказать, моцартианская полифония его стратегических проектов, учитывающая малейшую вибрацию общественного сознания, теперь была не нужна. Никак не вязалась она с нараставшим день ото дня уныло-маршеобразным звучанием президентской политики — барабан плюс флейта, как двести лет назад при Павле I, — и всем шагать в ногу, в ногу, в ногу. (Впрочем, ведь именно Закутаров посоветовал организовать пропрезидентское общественное движение «Идущие в ногу», — таков был, по его мнению, последний необходимый штришок в завершенную картину авторитарной власти в России.)
Он сделал все, что мог, и теперь пора уходить. Дальше неинтересно. Кому нужны виртуозы политтехнологи, если власть опирается, в основном, на тупую и грубую силу ФСБ и других спецслужб? Важнее искусства политического маневра становится ремесло оперативной разработки. Ты, мой чуткий и тонкий художник, заигрался и сам себя «отменил» в политике, снял с доски. В ногу, в ногу — вот и вся эстетика российской истории. Всё возвращается на круги своя…
После вторых выборов Закутаров почувствовал себя совсем скверно и едва не впал в глубокую депрессию: стал много больше пить, не по возрасту и не по положению тусовался с какими-то неопрятными алкашами-художниками из второразрядного андеграунда и посещал их выставки в плохо освещенных полуподвалах, ходил на ночные концерты обкуренных рок-музыкантов из второразрядных панк-групп и, к неудовольствию Джессики, принимал у себя в ателье и тех, и других вместе с их глупыми девками чуть ли не школьного возраста, готовыми трахаться когда угодно и с кем угодно.
Но все-таки он и снимал много, — и тех же художников, и музыкантов, и их юных подруг. Впрочем, и в фотографии у него наметился некоторый кризис: тема «Голые и обнаженные» была вполне отработана, и не то что снимать, а и видеть физиономии профессиональных моделей он уже не мог. Нужна была какая-то свежая идея, неотработанная натура… Тут-то он и вспомнил о давно задуманной серии «Русская пиета» и решил, что надо ехать в Северный Прыж…
Эта туманная идея возникла еще в ссылке, лет двадцать назад. К тому времени в северопрыж-ском районе (а говорили, что и в некоторых других среднерусских и северных сельских районах) закрепился странный обычай: когда умирал человек, гроб с телом ставили на две табуретки во дворе дома, где он жил, и все родные и близкие единой группой фотографировались «на память» — так, чтобы покойник в гробу был на первом плане. Обряд, видимо, занял место отпевания: священникам в советское время было запрещено отпевать усопших вне церкви, а действующая церковь была в районе только одна, в Прыже — туда и обратно покойника не потащишь, особенно если из дальней деревни. Но все-таки и бросить человека без церемоний в яму, вырытую в рыжей глинистой земле, — тоже неловко. Надо хоть как-то попрощаться, протянуть ниточку между живыми и мертвым. Вот и фотографировались, словно группа провожающих на перроне: тот, кто уезжает, — на переднем плане. Но не с чемоданом,