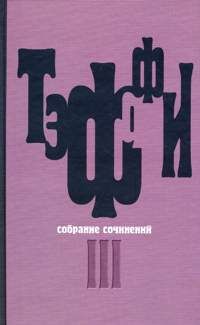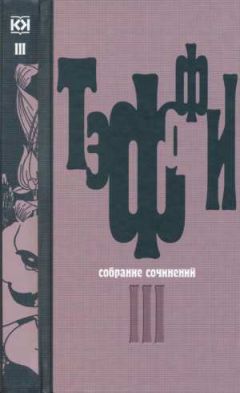Когда мы вернулись домой, оказалось, что наш дворник уже и мебель нашу всю к себе переволок — никто не ждал, что мы вернемся.
Ну, не везет ли мне, как утопленнику!
Серьезно говорю — будь у меня кольцо, да проглоти его рыба, да дай мне эту рыбу съесть, уж непременно это кольцо у меня бы очутилось.
Дико везет!
Париж.
Улица по ту сторону Сены — для нас, по сю сторону — для них.
Меблированная комната (шестиперсонная кровать, стол, два стула и пепельница).
Это — положение географическое.
Положение психологическое: тошно, скучно, не то спать хочется, не то просто — все к черту.
Сидят они двое — Сергей Иванович и Николай Петрович. Сергей Иванович — хозяин, Николай Петрович — гость.
Поэтому на столе сухари и в стаканах недопитый чай.
— Хотите еще? — А?
— Чаю хотите?
— Нет, ну его к ч… то есть спасибо. Не хочется.
— Тощища, — говорит хозяин и тут же вспоминает, что хозяину так говорить не полагается, и, придав лицу светский вид (вроде птицы, которая, собираясь клюнуть, смотрит боком), спрашивает:
— В театрах бываете?
— Какие там театры? До того ли теперь!
— А что?
— Как что? Россия страдает.
— Ах, вы про это!
— И потом — дрянь театры, а лупят, как за путное.
— Гм…
— Гм…
— Нет, я так.
— Давали бы контрамарки, так я бы, пожалуй, ходил.
— А ну…
— Что?
— Нет, просто зевнулось.
— Подпругин приехал. Слыхали, Егор Иваныч? Остановился в номерах.
— Где?
— В «Кляридже». Хвалит. Очень, говорит, чисто, и звонки. Позвонить — официант является. У них, говорит, в Архангельске, тоже хорошая гостиница, только, говорит, если звонок нажмешь, обязательно клоп выбежит.
— Собака он, Егор Иваныч. Никому от него пользы нет. И что ему в Париже делать? Раздал бы деньги, да и к черту — пусть назад едет.
— Куда же? Ведь его там повесят.
— Ну и пусть вешают, какая цаца, подумаешь!
— А он серебряную свадьбу справлять хочет. Наши собираются подарок подносить!
— Подарок! Я бы ему поднес подарок!
— А?
— Тут, говорят, собачье кладбище очень шикарное. Так вот, разориться разве да купить ему в складчину фамильный склеп на собачьем кладбище? А? Ха-ха! Интересно знать, в чьей он контрразведке служит?
— Что?
— Все же служат. Кто просто в разведке, кто в контрразведке. В контр дороже платят. И еще агитаторы есть — хорошо зарабатывают. Попадейкин — контразербайджанский агитатор.
— А что же он делает?
— Он у Лярю обедает. Я сам видал. Дальнейшего ничего не знаю. Один раз чуть было меня не подцепил, ну да я не так прост.
— А что же он?
— Да подошел и говорит: «Как поживаете, Сергей Иваныч? Что слышно новенького?» Понимаете? Нашел простачка. Так я ему и рассказал! Я говорю: «Спасибо, ничего особенного». Ну, он и отскочил. Ловко? Отбрил?
— А знаете что-нибудь?
— Да мало ли что. Все-таки вращаешься в обществе, слышишь. Вот был вчера у Булкиных. Они очень раздражены против Зайкиных. У Зайкиных дочь, говорят, в южноафганистанской контрразведке служит. А сам Булкин, по-моему, к контрсоветской румынской контрразведке сильно причастен.
— Из чего вы это заключаете?
— Уа-ды…
— Что?
— Зевнулось. Заключаю? По различным признакам. Хотите чаю?
— Спасибо, не хочу. По каким признакам?
— А то бы выпили. Я позвоню.
— Не надо. По каким при…
— Скажите, вы с Сопелкиным встречаетесь?
— Видел раза два.
— Гм…
— А что?
— Агент большевиков.
— Господь с вами! Бывший жандарм.
— Ничего не значит. О чем он с вами говорил?
— Подождите, дайте припомнить.
— Я не настаиваю. Можете и не рассказывать.
— Позвольте… Один раз, точно не помню, про водку. Водочный завод какой-то открывается. Так он говорил, что вот, мол, мы удрали и водочка за нами прибежала. С большим умилением говорил.
— Так-с. А второй раз?
— Второй… Гм… Я бы, пожалуй, чайку выпил, если вас не побеспокоит.
— Хорошо, я звоню. Так вот, о чем…
— А знаете, говорят, контр Попов тоже в разведке… то есть я хотел сказать, Попов в контрразведке, в монархической контрагитации, а Семгины — вся семья контрагитирует за Савинкова. Они говорят, что в газетах было, будто Савинков не рожден, а отпочковался, и что это имеет огромное влияние на польские умы, а также очень возбуждает народные массы.
— А о чем вы говорили с Сопелкиным?
— Да так, пустяки. Он рассказывал тут про одного типа, который будто и в разведке, и в контрразведке служит, сам на себя доносы пишет и с двух сторон жалованье получает. И будто ничего с ним поделать нельзя, потому что от взаимного контрдействия двух сил существо его неуязвимо.
— Вот прохвост! Кто же это? Ловкий! Надо бы на него ориентироваться.
— Слушайте… Вы никому не скажете? Даете слово?
— Ну разумеется, даю.
— Ей-богу? Никому не скажете? Смотрите, а то выйдет, будто я сплетник.
— Да ну же! Говорю же, что не скажу.
— Ну, так я должен вам сказать, что этот самый человек, который, гм… ну да что там, скажу прямо: говорят, что это — вы. Только помните, чтоб не вышло сплетен. А?
Из Совдепии стали получаться письма все чаще и чаще.
Странные письма.
Как раз на основании этих писем растет и крепнет слух, будто в Совдепии все помешались.
Журналисты и общественные деятели, пытавшиеся основывать на этих письмах свои выводы об экономическом, политическом и просто бытовом положении России, залезли в такие густые заросли ерунды, что даже люди, свято верившие в неограниченность русских возможностей, стали поглядывать косо.
Несколько таких писем попало мне в руки.
Одно из них, адресованное присяжному поверенному и написанное его братом-врачом, начиналось обращением:
«Дорогая дочурка!»
— Иван Андреич! Почему же вы оказались дочуркой собственному брату?
— Ничего не понимаю. Догадываться боюсь.
Новости сообщались в письме следующие:
«У нас все отлично. Анюта умерла от сильного аппетита…»
— Должно быть, от аппендицита, — догадалась я.
«…Вся семья Ваньковых тоже вымерла от аппетита…»
— Нет, что-то не то…
«…Петр Иваныч вот уже четыре месяца как ведет замкнутый образ жизни. Коромыслов завел замкнутый жизни уже одиннадцать месяцев тому назад. Судьба его неизвестна.
Миша Петров вел замкнутый образ жизни всего два дня, потом было неосторожное обращение с оружием, перед которым он случайно стоял. Все ужасно рады».
— Господи! Господи! Что же это такое! Ведь это не люди, а звери! Человек погиб от несчастного случая, а они радуются.
«…Заходили на твою квартиру. В ней теперь очень много воздуха…»
— Это еще что за штука? Как прикажете понять?
— Думать боюсь! Не смею догадаться!
Кончалось письмо словами:
«Пишу мало, потому что хочу вращаться в свете и не желаю вести замкнутый образ жизни».
* * *
Долго оставалась я под тяжким впечатлением, произведенным этим письмом.
— Знаете, какое горе, — говорила я знакомым. — Ведь брат-то нашего Ивана Андреича сошел с ума. Называет Ивана Андреича дочуркой и пишет такое несуразное, что даже передать стесняюсь.
Очень жалела я беднягу. Хороший был человек.
Наконец узнаю — какой-то француз предлагает отвезти письмо прямо в Петроград.
Иван Андреич обрадовался. Я тоже собралась приписать несколько слов — может быть, и не совсем спятил, может, что-нибудь и поймет.
Решили с Иваном Андреичем составить письмо вместе. Чтобы было просто и ясно и для потускневшего разума понятно.
Написали:
«Дорогой Володя!
Письмо твое получили. Как жаль, что у вас все так скверно. Неужели правда, будто у вас едят человеческое мясо? Этакий-то ужас! Опомнитесь! Говорят, у вас страшный процент смертности. Все это безумно нас тревожит. Мне живется хорошо. Не хватает только вас, и тогда было бы совсем чудесно. Я женился на француженке и очень счастлив.
Твой брат Ваня».
В конце письма я приписала:
«Всем вам сердечный привет.
Тэффи».
Послание было готово, когда зашел к нам общий наш друг адвокат, человек бывалый и опытный.
Узнав, чем мы занимались, он призадумался и сказал серьезно:
— А вы правильно письмо написали?
— То есть… что значит «правильно»?
— А то, что вы можете поручиться, что вашего корреспондента за это ваше письмо не арестуют и не расстреляют?
— Господь с вами! Самые простые вещи — за что же тут!
— А вот разрешите взглянуть.
— Извольте. Секретов нет.
Он взял письмо. Прочел. Вздохнул.
— Так я и знал. Расстрел в двадцать четыре часа.