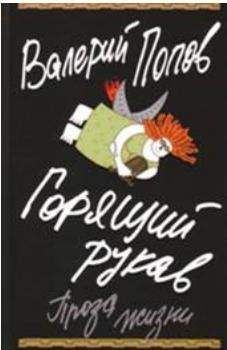БОРЯ-БОЕЦ
Интересно, вспомнят нас добрым словом наши потомки за то, чем мы сейчас занимаемся? От усталости тяжелые мысли нашли на меня. Я стоял в почти пустой деревне на берегу Ладоги, и на меня дул резкий, словно враждебный ветер, треплющий пачку листовок в моей руке. Ну, ладно. Раз уж я забрался в такую глушь, то надо хотя бы сделать то, ради чего я заехал сюда!
Я сделал несколько нелегких шагов навстречу прямо-таки озверевшему ветру и вышел на самый берег - правда, самой воды за бешено раскачивающейся белесой осокой не было видно, но Ладога достаточно заявляла о себе, и будучи невидимой, - ревом и свистом.
Ну... куда? Я огляделся по сторонам. На берегу не было ничего, кроме вертикально врытого в почву бревна, ставшего почти белым от постоянного ветра и солнца. Я еще некоторое время вглядывался в невысокий этот столб, испуганно соображая, не является ли он остатком креста... но нет - никаких следов перекладины я не заметил. Просто - столб.
Я вынул из сумки тюбик клея, щедро изрыгнул его на листовку, потом прилепил ее к столбу... тщательно приткнул отставший было уголок... Вот так. Я смотрел некоторое время на свою работу, потом повернулся и пошел. Все! Одну листовку я прилепил на автобусной станции, вторую - на доске кинотеатра, третью - у почты, четвертую - у правления, пятую - здесь, на берегу. Достаточно - я исполнил свою долг!
Но все равно я несколько раз оборачивался назад, на бледную фотографию моего друга, страдальчески морщившегося от ветра на столбе, друга, согласившегося выставить свою кандидатуру на выборах против превосходящих сил реакции... Да - одиноко будет ему... на кого я оставил его тут?
Когда я обернулся в пятый или шестой раз, я увидел, что листовку читает взлохмаченный парень в глубоко вырезанной майке-тельняшке, в черных брюках, заправленных в сапоги.
Ну, значит, не зря я мучился, добирался сюда, с облегчением подумал я, все-таки кто-то читает!
- Эй!.. Профсоюсс! - вдруг донесся до меня вместе с ветром шипяще-свистящий оклик.
"Профсоюсс"?.. Это, что ли, меня? Но при чем - профсоюз? Я ускорил шаг.
Когда я глянул в следующий раз, парень, сильно раскачиваясь, шел за мной.
- Стой, Профсоюсс! - зловеще выкрикнул он.
Но почему - профсоюз, думал я, не ускоряя, но и не замедляя шага. А, понял наконец я: в тексте написано ведь, что друг мой является преподавателем Высшей школы профсоюзного движения - отсюда и "профсоюсс"... Ясно, этот слегка кривоногий парень за что-то ненавидит профсоюз - да, в общем-то, и можно понять за что! Но при чем тут, спрашивается, мой друг и тем более при чем тут я, вовсе ни с какого бока к профсоюзу не причастный!
- Эй! Профсоюсс!
Ну, что он затвердил, как попка? Потеряв терпение, я остановился и резко повернулся к нему. Он остановился почти вплотную. Взгляд у него был яростный, но какой-то размытый.
- Ну, что надо?
- Эй! Профсоюсс! - Он кричал и вблизи. - Ты куда рыбу дел?!
- Какую рыбу? - проговорил я.
Он кивнул головой в сторону Ладоги.
Я отмахнулся (я-то тут при чем?), повернулся и пошел.
... Конечно, думал я, симпатичного мало в здании Высшей профсоюзной школы, величественно поднимающейся на пустыре среди безликих серых пятиэтажек. Своими как бы греческими аркадами она, видимо, должна была внушать мысль о какой-то высшей мудрости, царящей здесь, и непрерывно, вот уже десять лет, пристраивалась, разрасталась. Среди жителей зачуханного нашего района она была знаменита лишь тем, что в нее была встроена единственная в нашем районе парикмахерская, а также тем, что оттуда иногда выносили лотки с дефицитом - видимо, когда там был перебор и могло стухнуть. Вообще, если вдуматься, в наше время сплошной демократизации сама идея эта выглядела дико - что значит Высшая профсоюзная школа? Уже ясно, по-моему, всем, что уж по крайней мере профсоюзные лидеры должны выдвигаться из глубоких масс, из самых непричесанных и самых непримиримых, а тут их не только причесывали - их явно прикармливали! Нередко, едучи на троллейбусе из центра, я рассматривал представителей, а также представительниц этой академии мудрости - в основном, из ярких южных национальностей. Как правило, они ехали группой с какого-нибудь эстрадного концерта, одеты были богато, но несколько безвкусно (безвкусно - я имею в виду для наших скромных широт) и громогласно, ничуть не стесняясь певучих своих акцентов, может, слегка нескромно среди умолкнувших пассажиров делились своими мнениями о популярной певице или певце. На "чужих" они не смотрели, а если и замечали кого-либо, во взгляде их была спокойная, иногда добродушная уверенность: я - то последний год волокусь на такой вот гробовине, через год пересяду куда получше - а ты-то так будешь маяться всю жизнь! Главное, чему их учили, - уверенности!
И мой друг, уже три года преподающий им эстетику, говорил о них с изумлением, как о каких-то марсианах... Вывели такую породу людей или отобрали? Перед экзаменом, как рассказывал он, они были готовы на все, главное в их характерах было - победа любой ценой! Все, включая женщин, предлагали любые свои дары - но как только экзамен был сдан, они тут же переставали здороваться, проходили, как мимо призрака, ты для них просто не существовал!.. Ну, ясно - не первых же встречных, а именно таких отбирают, чтобы править! Тип этот достаточно был известен в народе и достаточно ненавидим... И то, что к другу моему внезапно вдруг прилипло это клеймо, вряд ли будет способствовать его популярности.
- Эй! Профсоюсс!
Но друг-то мой чем виноват?! Он-то, наоборот, преподает им эстетику и искусствоведение, поднимает, насколько это можно, их грубые души!
- Эй! Профсоюсс!
Да - сердце у меня колотилось, - есть же типы! "Эй, профсоюсс!" Очень ему надо разбираться в тонкостях: все гады, нахлебники - и весь разговор!
Кого-то он мне напоминал... Неохота вспоминать неприятное, но оно было неотступным, навязчивым - и я вспомнил!
В нашем замусоренном новостройками дворе... не дворе, а огромном пространстве между домами-кораблями и магазином... тоже есть своя иерархия - к вершинам ее прорваться трудно, да и зачем, думал все время я, это нужно: делать карьеру во дворе? Но даже, проходя тут изредка, знал тем не менее местных знаменитостей. Среди них выделялся, несомненно, Боря-боец.
В разные эпохи, которые у нас внезапно сменяют одна другую, и облик Боба резко менялся. Неверно говорят, что пьяницы следуют лишь в одну сторону - опускаются, и все... это далеко не так. В этом я убедился, время от времени встречая Бориса в какой-то абсолютно новой, неожиданной ипостаси, и ошарашенно понимал: это не просто Боб изменился - пошла другая эпоха. С тех пор, как я живу в безобразном этом районе, таких эпох я заметил несколько. Может, в масштабе мира или страны эти повороты и не были заметны - но тут они изменяли все в корне. Но поскольку ничего другого тут нет, поворот диктовался магазином, в основном, винным, - ранее я даже не догадывался, что он может так круто диктовать!
Первая эпоха - еще при прошлом лидере, все это время отлично помнят: когда вино всюду лилось рекой, когда пили, казалось, всюду и все - и в цехе, и в научной лаборатории, и в поездах, - вся страна говорила заплетающимся языком. Естественно, что Боб с товарищами не отставали от прочих, а шли впереди. Был ли он уже тогда обладателем почетного прозвища Боря-боец, выделялся ли из общей не вяжущей лыка массы? Может быть, только большим буйством, большей степенью опьянения: огромный, фиолетово-одутловатый, в измазанной одежде, оглушительно орущий, всегда с кем-то ссорящийся - таким он был тогда. Но был ли он фигурой? Не могу сказать. Трудно быть вождем в неподвижном времени, трудно возглавить толпу, которая никуда не движется...
Так бы Боря и сгорел, размазался в этом квадрате жизни, расположенном между домами и магазином (больше он, кажется, нигде не бывал, даже и работал где-то тут же, если это можно назвать работой), - но обстановка резко изменилась.
Внезапно иссяк алкогольный водопад, резко и без обсуждения высохли алкогольные реки, открылось сухое и неказистое дно, захламленное каким-то мусором. Чувство смертельной жажды и обиды охватило всех - даже людей, покупающих вино раз в год. Но раньше они хоть имели эту возможность, хоть такую степень свободы: могли не хотеть выпить или могли хотеть и выпить, теперь и этого выбора все были лишены. Но ясно, что активный протест это вызвало лишь у Бори и его компании. Именно тут-то они и выделились из общей массы как наиболее пострадавшие, сделались как бы общественно активны: их возмущенный пикет (разве что без плакатов на груди) всегда теперь стоял возле винного магазина, и к ним то и дело подходили люди, которые раньше с ними не общались, но теперь подходили заявить, что думают так же, как они. Над этой бурлящей, но пока бездействующей толпой Боря возвышался, как скала. Не каждый мог пробиться к нему и поделиться своими кровными обидами лично с Бобом, таинственно и величественно ухмыляющимся, - обычно новообращенные удовлетворялись душевной беседой с его заместителями. В те сухие времена в той бурлящей и разрастающейся толпе количество отчаявшихся потенциальных пьяниц резко возросло - и именно тогда Боб как-то незаметно, но бесспорно стал лидером: все клубилось вокруг него, огромного и величественного. Вот видите, что с нами делают, говорила его оскорбленно-насмешливая мина, и все жались к нему, тем более он всегда был на месте - ив дождь и в холод стоял скорбным изваянием, гордым монументом. Именно тогда, в те суровые месяцы, Боря и выстоял свою славу - мало кому другому это было по плечу, другие все-таки отлучались.