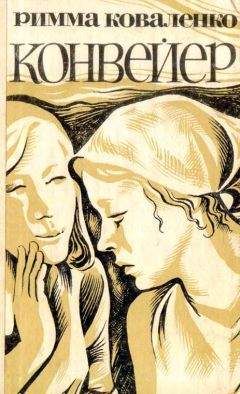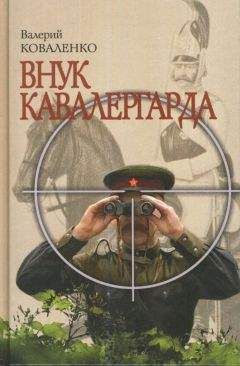Ты думаешь, он влюбился?
— Ты ненормальная, — сердито сказала Галка, — конечно же он влюбился.
— А вот те, в кино, любили друг друга и не женились. А потом она сгорела в самолете. У Толика такой любви быть не может.
— И слава богу, что у него будет другая любовь.
— Он ее приведет к себе. Она некрасивая, с большими ушами. Соседи включат ее в список дежурств по местам общего пользования.
— Перестань болтать. — Галка пошла на кухню, но вдруг повернулась и пристально посмотрела на Вику. — А почему у тебя такое лицо? У Толика есть глаз — сейчас и я вижу, что ты похожа на мадонну.
— Я плакала, — ответила Вика, — я была у Красильниковых и там плакала. А потом позвонила Толику.
— Тебе обидно, что Толик женится?
Вика пожала плечами:
— Мне все равно.
Потом, когда Галка пила на кухне чай с докторской колбасой, Вика сидела напротив и рассказывала о Красильниковых.
— Представляешь, эта мадам вздумала наставлять меня. А этот молчун Сергей Платонович тоже, оказывается, озабочен моим образом жизни. Они решили меня сделать сказочно богатой: «Ты поработаешь месяц табельщицей на стройке и вместе с прогрессивкой получишь сто рублей». Галка, я спрашиваю тебя, какое им до меня дело? Галка, какое это все-таки счастье, что он тогда перепутал и пришел к другому магазину…
Галка подавилась колбасой. Чай прыснул у нее изо рта, на глазах выступили слезы. Вика вскочила, стала бить своей крепкой ладошкой по худенькой Галкиной спине. Галка откашлялась, пошла в комнату и легла. Вика стояла над ней и размахивала руками:
— Я, конечно, как последняя дура расплакалась. А потом, когда пришла в себя, подумала: а у самой мадам какой образ? Вышла замуж за дурака и счастлива.
Вика остановилась и увидела, что глаза у Галки чужие, а на щеках, под глазами, два красных пятна.
— Тебе плохо, Галка?
— Мне плохо. Уйди от меня. Мне плохо от тебя.
Вика отошла, ничего не понимая. Потом сказала:
— Ну и пусть. Ты думаешь, что у меня жестокий возраст, а на самом деле — несчастный. Никто со мной не считается. И тебе я неинтересна.
— Ты мне отвратительна, — сказала Галка, перевернулась на спину и стала смотреть в потолок.
Вика ушла на кухню, сидела там и думала: никто не любит правды. А она все равно будет говорить правду. Это, наверное, ее профиль. Она станет судьей или журналистом. Галка тогда скажет: «Ты еще подростком не терпела вранья».
Она тихонько вернулась в комнату; думала, что Галка уже спит, но та по-прежнему лежала на спине и курила.
— Галка, не сердись на меня, — мирно сказала Вика, — я наконец нашла свой профиль.
Она думала, что Галка спросит какой, но Галка, не глядя на Вику, сказала:
— Я ночую у тебя, Красильниковы кормят. А зачем ты нам нужна?
— Не злись, Галка, — Вике очень хотелось помириться.
— Мы это делаем, потому что любим твоих родителей. А ты пользуешься, и никакой доброты…
— Я добрая! — Вику напугали ее слова.
— Я в этом не уверена. У тебя каменное сердце.
— Ты меня просто не понимаешь. У меня совсем не каменное сердце. Я в папу. Мы с юмором.
— Один прикрывает юмором доброту, а другой — пустоту.
— Я доброту, — твердила Вика, — я доброту прикрываю. Неужели, Галка, добрые люди не имеют права говорить правду?
— Какую правду?
— Ну, вот я сказала про мадам, что она вышла замуж за…
— Замолчи! — Галка крикнула и обессиленно прикрыла лицо ладонями. — Что ты знаешь про мадам? Что ты знаешь…
Через час они опять сидели на кухне, пили чай, и Галка говорила:
— Сердце словами обучить нельзя. Голову можно, а сердце нельзя. Сердце само все должно знать. Оно должно знать, что доброта рождается из благодарности.
— И любовь иногда рождается из благодарности, — говорила Галка. — Может быть, поэтому Сережа и женился на мадам.
Вике хотелось спросить: «А ты почему одна? Никто не любил? Или не захотела из благодарности?» Хотела спросить и могла бы, но уже понимала — нельзя.
Что делать, если хочется петь?
Надо петь.
Но попробуй запой, если нет ни слуха, ни голоса. Жена расстроится, поглядит с мольбой: «Опять?» Сын опустит голову, и на макушке его будет написано, что ему стыдно: «У всех отцы как отцы, а мой поет». Сыну двенадцать. Отец в его глазах уже не великан, но еще и не обычных размеров человек. Когда он был великаном, сын любил его песни. Они тогда пели вдвоем. Брались за руки, выходили на середину комнаты и начинали: «Ой, цветет калина в поле у ручья…»
Пели громко и старательно, смущая кошку Улю, которая в такие минуты цепенела и ощетинивалась.
Потом сын перестал петь. Кто-то ему объяснил, что нет у него ни голоса, ни слуха. И Сергей Сергеевич не стал выходить на середину комнаты, а пел один где придется. Пел так года три, пока жена не взмолилась: «Сил нет. Нервы лопаются. Прекрати».
Если человек что-то хочет делать, а ему не дают, он становится несчастливым. Утром, когда он брился, из зеркала смотрели на него глаза несчастливого человека. Когда он шел к трамвайной остановке, спина и походка тоже выдавали его несчастливость. Только на работе он становился другим: погружался в колонки цифр, крутил ручку арифмометра, и глаза его и спина в эти часы были полны достоинства и красоты, как у всякого мужчины, поглощенного работой. Но на работе нельзя было петь, поэтому вполне счастливым он все-таки не был.
Иногда он пел мысленно, шел и беззвучно пел песню. Или сидел дома в кресле, глядел в одну точку и пел. Жена ничего не замечала, а сын, догадываясь, чем он занимается, подсовывал ему на подпись дневник с двойками.
Сергей Сергеевич прерывал песню, писал свою фамилию и спрашивал:
— Что из тебя будет?
— Не знаю, — отвечал сын, выхватывая у него из рук дневник.
Сергей Сергеевич шел к жене на кухню.
— Из него ничего не будет, — говорил он печально, — меня огорчает, что из него ничего не будет.
Жена пугалась, потом, подумав, успокаивалась и отвечала:
— Оставь ребенка в покое. Почини лучше телевизор, а то живем, как в гробу.
Сергей Сергеевич ничего не понимал в телевизорах. Он вздыхал и возвращался в кресло.
Сергей Сергеевич женился пятнадцать лет назад. Это было так давно, что теперь он даже не помнит, в каком платье была в загсе его жена. Свадьбы у них не было. И квартиры