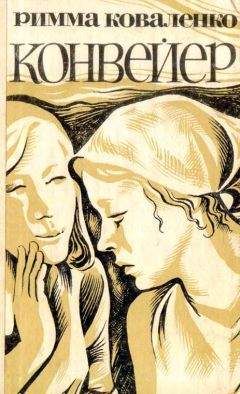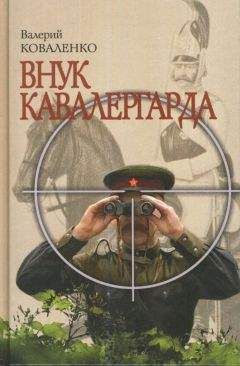не было. Каждый жил в своем общежитии. У них были разные крыши над головой и разная общая жизнь с другими людьми, а своя, семейная, проходила на улице. Он брал жену под руку — тогда за руку ходили только дети, — и они бродили по улицам и переулкам дотемна, а иногда и до поздней ночи.
На старых улицах с деревянными домами они заглядывали в окна. Там была безмолвная жизнь, как в немом кино: люди сидели за столом, ели или читали журналы, дети учили уроки, кошки спали на диванах. Когда же появился у них свой дом — маленькая комната в коммунальной квартире, — они не сразу привыкли к ней. Жена говорила: «Пошли побродим», повязывала розовой косынкой в белый горошек колпак электрической лампочки, и они уходили, не гася свет. И когда возвращались, окно встречало их радостью: в розовом, как заря, пламени качались горошины белых снежинок. Это было самое красивое окно во всем доме.
Потом ему надоело бродить по улицам, и жена уходила одна. Повязывала стеклянный колпак лампочки косынкой, и розовая заря с белыми горошинами теперь уже была видна с улицы ей одной.
Потом родился сын. Он рос славным мальчуганом, любил петь, любил ходить с матерью на вечерние прогулки, а потом разлюбил и то, и другое. А Сергей Сергеевич по вечерам стал ловить себя на мысли, что хотел бы пожить какое-то время без жены и сына, один.
И вот мечта его сбылась. Он остался один. Он и до этого иногда сиживал дома один, но это было временное одиночество. А все временное, как известно, не приносит человеку покоя, наоборот, оно его волнует, будоражит, пугает разными предчувствиями. И Сергей Сергеевич в такие одинокие часы тяготился своей свободой и мечтал, чтобы скорей явилась жена или сын, или хоть кто-нибудь.
В этот раз одиночество должно было стать затяжным — жена и сын с чемоданом и кошкой Улей в кошелке уехали на месяц в деревню. Сергей Сергеевич сидел в кресле и с удовольствием думал, что может сейчас в любую минуту выйти на середину комнаты и спеть песню.
Он не спешил: если счастье рядом, только руку протяни, человек обычно не спешит. Сергей Сергеевич сварил себе кофе и, радуясь, что может его пить вечером, и ночью, и всегда, когда вздумается, стал глядеть на портрет сына, который висел на стене. На портрете сыну было два года. Два круглых, похожих на ягоды крыжовника глаза глядели широко и проницательно. Казалось, что эти два глаза, как маленькие магниты, втягивают в себя весь мир: небо, землю, деревья и людей. «Из него мог бы вырасти очень умный и добрый человек, — подумал Сергей Сергеевич, — но не вырастет». Он глотнул кофе и задумался: «Почему же не вырастет?» Почему глаза, которые в начале жизни были такими всевидящими, потом стали различать только ближние предметы. К тому же эти предметы были не велики по своим размерам: портфель, собака на улице, футбольный мяч, который надо настичь и пнуть носком ботинка. С каких-то пор сын перестал видеть и его целиком. Иногда он видел лицо отца, иногда часть пиджака, иногда ноги. На отдалении Сергей Сергеевич не попадал в фокус сыновьего взгляда: расплывался, мерцал и не был похож на себя. От такого миражного отца и слова доносились как сигналы с затерявшегося в океане корабля: «Я пошел…», «Скажи маме…», «Ты опаздываешь…».
Сергей Сергеевич отпил еще глоток кофе и вдруг понял, что никогда не любил этот коричневый, непонятного вкуса напиток. То, что в других вызывало физическую бодрость, в нем рождало беспокойство и смятение духа. Но он зачем-то упорно пил его по утрам и огорчался, когда жена запрещала ему это делать в другие часы.
Он отставил чашку и вышел на середину комнаты, одернул на боках свитер и запел:
Живет моя отрада
В высоком терему,
А в терем тот высокий…
Он давно не пел, песня ударила ему в голову, как вино. Он допел ее до конца и начал другую, ту, которую пел когда-то дуэтом с сыном: про калину, что цветет у ручья.
Он живет, не знает
Ничего о том,
Что одна дивчина
Думает о нем…
Телефонный звонок оборвал песню. Сергей Сергеевич подошел к телефону и обиженно сказал в трубку:
— Да, я слушаю.
— Можно Сергея Сергеевича?
— Можно, — ответил Сергеи Сергеевич, — это я.
— Ну, зачем же так? — Женский голос произнес это укоризненно. — Я прошу позвать Сергея Сергеевича Прошкина.
— Я не Прошкин, но тоже Сергей Сергеевич. — Это показалось ему удивительным, и он засмеялся.
— Почему вы смеетесь? — спросил голос.
— Потому что мне смешно, — ответил он, — вдруг понял, что я не один на свете Сергей Сергеевич.
Женщина тоже засмеялась.
Ее смех понравился Сергею Сергеевичу.
— Знаете что, — сказал он, — давайте немножко поговорим.
— Давайте, — согласилась она.
— Вы любите петь?
Она опять засмеялась коротко и легко, и он сразу понял — любит.
И тогда он спросил:
— У вас есть голос?
— Есть.
— А слух?
— И слух.
— Вы счастливая, — сказал Сергей Сергеевич, — вы можете петь и не озлоблять своим пением людей. Спойте что-нибудь.
— Хорошо.
И она запела: «Ой, цветет калина в поле у ручья…»
Сергей Сергеевич замер. Нет, его поразило не то, что она запела ту же песню, которую он только что пел. Его сразило совсем другое — у певшей незнакомой женщины не было ни слуха, ни голоса.
— Это хорошая песня, — сказал он, когда она замолчала, — и вы ее очень хорошо спели.
— А теперь вы, — сказала она, — теперь вы что-нибудь спойте.
Сергей Сергеевич понял, что это невыполнимо, и признался:
— Я пою только один.
— Вы одиноки?
— Нет. У меня есть жена и сын. А у вас?
— Муж, сын и дочка. И еще — картины. Ни у кого нет столько картин. Наверное, их штук восемьдесят или сто. Я не считала.
— Сто картин! — изумился Сергей Сергеевич. — Откуда у вас столько картин? И зачем столько?
— Их рисует мой муж, — ответила женщина, — мы женаты уже одиннадцать лет, поэтому их так много. У нас все стены увешаны картинами. А одну мы прибили на потолке. Это в той комнате, где спят дети.
— Картина на потолке?! — Сергею Сергеевичу показалось, что она дурачит его. — Зачем на потолке? И вообще зачем одной семье восемьдесят или сто картин? Вы могли бы их дарить друзьям.
— Это не такие картины, которые дарят, — объяснила она, — я же вам сказала: