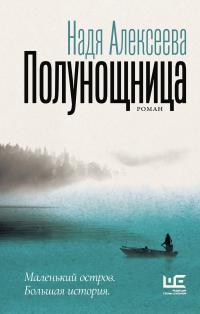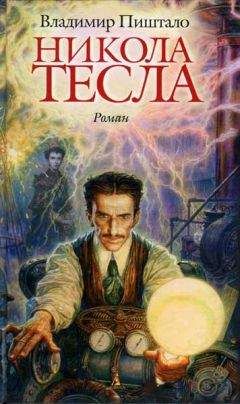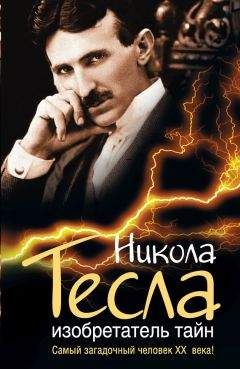Надо же такое выдумать: слава! Именины всерьез празднуют – в день своего святого не выходят на работу, накрывают поляну и ждут. И вся родня к ним без предупреждения может нагрянуть и куролесить до вечера. Ты представляешь?
Аня подумала, что таким бы хотела видеть свой день рождения, когда не надо выбирать кого приглашать, но чтобы все близкие знали: ты их сегодня ждешь. Впрочем, 15 июля она бы хотела видеть только Сурова.
– До моего дня рождения полгода, – сказала Аня и, спохватившись, спросила: – А что в театре дают?
– «Вишневый сад».
В жизнь, которой она была довольна впервые со дня приезда, опять вторгся Чехов.
Руслан подошел вплотную:
– Ну, он на русском с сербскими субтитрами.
– Ты не говорил.
– Ты же его обожала прямо, Чехова-то; я думал сюрприз сделать, – Руслан осекся. – Думал, обрадуешься.
Аня ткнула в темно-синюю рубашку, подходящую к рыжим волосам, вывернулась из объятий мужа: вроде как ей надо в ванную. Собака из кухни засеменила за ней. Аня, запершись, уставилась в зеркало над раковиной. Показалось, у нее всё на лице написано. Вид довольный, сытый. «Я теть Наташу пошлю в следующий раз. Наплела мне, стерва старая, что вы чуть не на помойке живете, – а ты цветешь. Не беременная ты у меня, нет?» – мать, освоившая видео, позвонила вчера, едва Аня вернулась от Сурова. Ей больше не надо было сбегать до прихода Андрюхи, таскаться с сумкой сменных вещей, как кочевник. Она думала, что это начало, только начало.
Аня не знала, что надеть в театр. Вечернее платье, привезенное на Новый год, короткое, блестящее, Руслан счел вызывающим: «Пойми ты, для меня это – работа». Ему нравилось, когда Аня не высовывается, серая серьезная мышка. Достала черные брюки, водолазку; только на шею повесила колье, скрученное из тонких серебряных проводков. По взгляду Руслана поняла, что совпала с его ожиданиями. Он закрыл окно, бормоча про заморозок. Попытался погладить Ялту. Зарычала.
Бросив перед уходом взгляд на вишню за окном, Аня пообещала себе завтра же купить красное летящее платье и явиться в нем к Сурову. День Валентина. Может, он возьмет отгул. Вдруг и там, на склонах, спускавшихся от их дома к Дунаю, к их рыбному ресторанчику с оленьими рогами над барной стойкой, официантом с мясистой шеей и глазами первоклашки, сортами пива, которых никогда не было в наличии, – тоже всё в цвету? Представила, как Суров выковыривает из тарелки лепестки.
Обычно они заказывали окуня или карпа: жареную рыбину окружала корона тушеной картошки со шпинатом и какой-то пряностью. Аня не могла разобрать, что́ это, официант не говорил, отшучивался: будете ходить к нам, пока не распробуете.
«Рыбу лучше всего готовят там, где клетчатые скатерти», – вычитал Суров у Милорада Павича. Даже в разгар рабочего дня красно-белые пестрые столики вокруг были заняты сербами. Это был самый дальний уголок набережной. Туристы сюда не забредали.
Народно позориште, здание на Площади Республики, уступало в пышности соседнему Национальному музею. Но все-таки внутри – бархат, позолота, бликующий мрамор пола, пестрые цветы в больших вазах. Пока Руслан жал руки коллегам, Аня протиснулась, потрогала лепестки – живые.
Википедия говорила, что и во время бомбежек 99-го труппа продолжала играть, а за вход платили всего один динар.
За небольшим гардеробом, куда Аня сдала пальто, – туалет. Единственная кабинка не закрывается на защелку; женщины терпеливо ждут своей очереди. Выйдя из кабинки, в зеркале у себя за спиной Аня заметила Мару, расчехляющую помаду. На ней – платье-футляр до колен, белое с искрящейся желтой брошью у воротника, и туфли желтые.
– Ты что, в первый раз тут? – Мара чмокнула Аню куда-то в висок с высоты каблуков и продолжила, не дожидаясь ответа: – В этом туалете можно пенсию встретить, я только чуть подмалеваться забежала.
Накрасилась она – у визажиста; такой макияж с тремя слоями тона и контурингом часа два сожрет. Но сегодня и Аня чувствовала себя красивой.
– Просила Димку быть моим кавалером – он высокий, симпатичный, сфоткались бы, кое-кого выбесить, – а он сказал, что ненавидит театры. Не пришел. Ты его хоть раз видела?
– Нет.
– Вообще не появляется. Мы по пятницам в бар – а он дома сидит; и работает удаленно. Наверное, с женой нелады.
Их прервал второй звонок.
– А Драгана тут? – Ане не хотелось ее видеть.
– Нет, у нее слава. Ох уж эти сербы. Лишь бы откосить, а я выкручивайся. Смотри-смотри, это же замминистра! – Мара вытаращилась на толстяка в узком галстуке, едва ей поклонившегося и юркнувшего в служебный вход («Забранено»). – Чего это он?
– Будет лаять собакой за сценой.
Мара прыснула.
Когда они пробирались по третьему ряду к своим местам, мужчины (да и женщины) вставали при виде Мары. Руслан скользнул взглядом по ее груди.
Она уселась слева от него, заявив, что махнулась с Андрей Иванычем: тот всегда мечтал побывать в ложе. Возле Ани устроились Стефан с женой: платье в желтых кружевах, взъерошенных, как на озябшей канарейке.
Зал – камерный; похож на расписную шкатулку. Бордовый бархат партера, ложи, галерка, балконы белые с золотым. На потолке – словно написанная кондитерским кремом желто-розовая колесница, в медальоне, обрамленном золотой лепниной: парадный портрет правителя.
– Это князь Милош? – спросила Аня Стефана.
Стефан – простоватый, со свежей царапиной на подбородке, видимо, брился неохотно и наспех, жена настояла, – ей сразу понравился. Он фотографировал стоявший возле занавеса черный экран с белой надписью «“Вишњик” (драма) Чехов». Прищурился на потолок:
– Нет. Не мыслим, – поправился: – Не думаю.
– Зашто князь Милош? – спросила канарейка.
Аня едва не ляпнула – за то, что он везде в Белграде: от названий улиц до этикеток минералки. Он – и, местами, Тесла. Но тут прогремел третий звонок.
Руслан положил руку ей на колено. И слегка сжал. В этом не было страсти, только его обещания: потерпи, вот я дела разгребу – и мы… Аня подумала: а что, собственно, эти «мы» тогда будут делать? «Мы» давно разучились проводить время вдвоем. Жизни «мы» сходились вечерами, за ужином, обменивались глаголами в прошедшем времени: сходила-купила, увидел-спросил.
Свет погас, по сцене прошел Чехов. Экраны с субтитрами погасли тоже. Чехов зажигал свечи и керосиновые лампы: снимал-надевал колпаки, прикручивал фитили. Двигался неторопливо. Ане с третьего ряда он казался одновременно и ялтинским типом, сменившим наконец желтую поддевку на приличный костюм, отпустившим бородку, надевшим пенсне, – и Чеховым, Антоном Палычем, по которому не решилась заказать в Ялте панихиду.
Мара с Русланом шептались: крутая затея «вывести автора» внутри спектакля, «небанально». Стефан, не читавший Чехова, с интересом наблюдал за перемещениями этого человека, двигавшегося