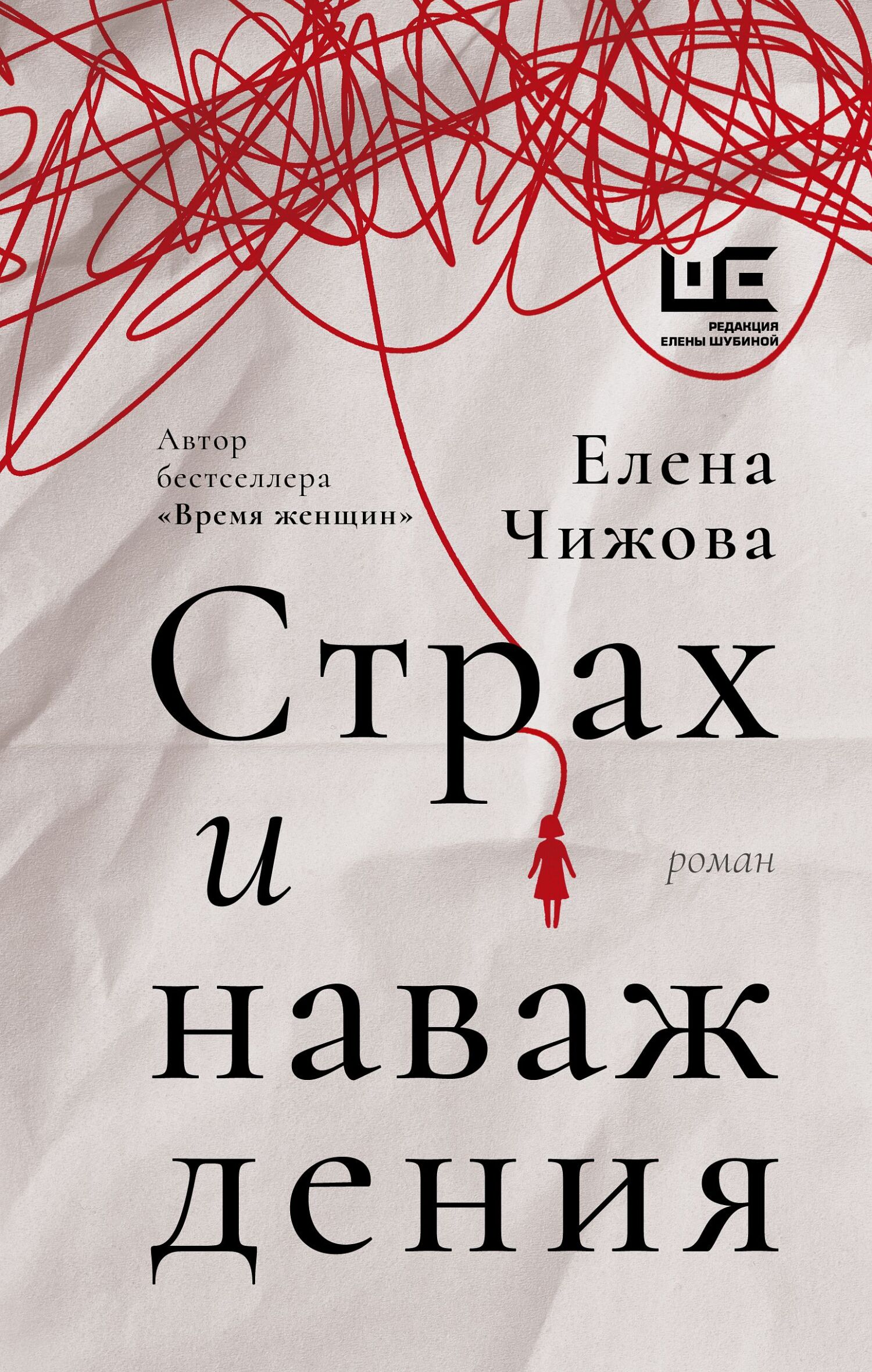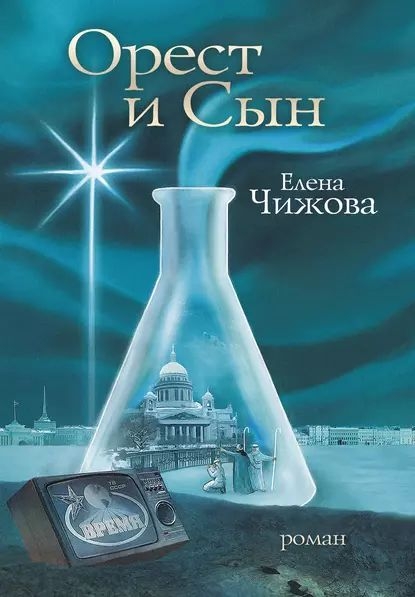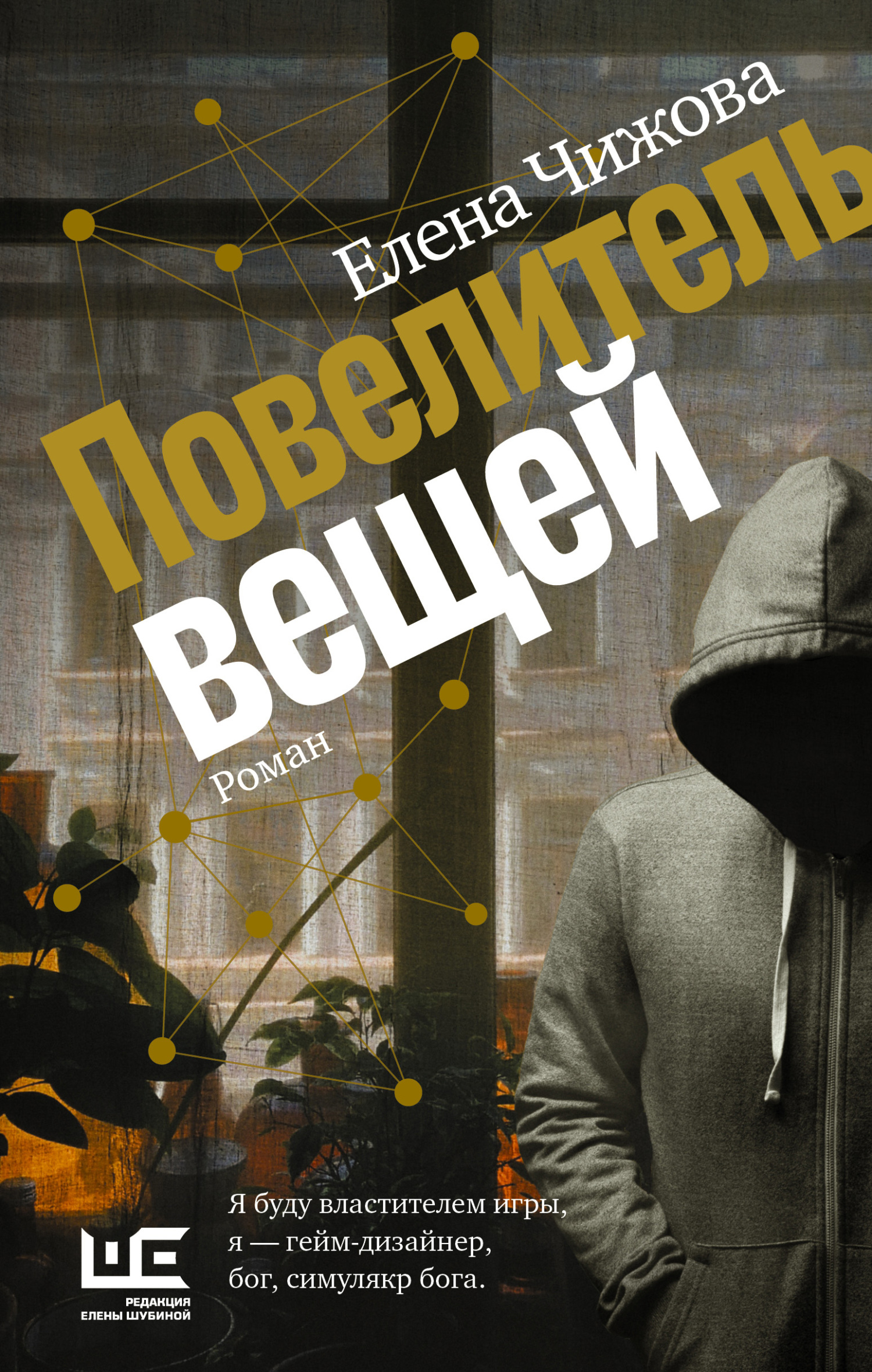из поезда, где – занятый в первом акте нашей безумной, на грани фарса, пьесы – он подвизался в роли проводника. На сей раз, дождавшись своего часа (быть может, в расчете, что его не опознают), он прикинулся лечащим врачом.
Безусловную серьезность его намерений подчеркивал стетоскоп – резиновая трубка, свисавшая из нагрудного кармана.
Тень, падая сбоку, смазывала его бледное, дрожащее в воздухе лицо.
– Температуру ей мерили?
Не отвечая ни да, ни нет, стюардесса, переодетая сестрой милосердия, вложила ему в руку «пистолет». Наведя на меня ствол, он удовлетворенно хмыкнул, скосил глаза на свою добровольную помощницу и, как бы нехотя, кивнул.
«Мы погибли».
Заслышав придушенный шепот из-под кресла, я встрепенулась и дрыгнула ногой. Мой бумажный Вергилий, однако, увернулся, выказав чрезвычайную подвижность, не свойственную его солидному возрасту и накопленному объему знаний.
Вопреки паническим предсказаниям, почтовик, переодетый доктором, задумчиво поигрывал стетоскопом. Со стороны могло показаться, будто он намеревается прослушать мои сухие, сморщенные легкие. Но нет.
Как ни в чем не бывало, он плюхнулся в соседнее кресло и с неподдельным энтузиазмом принялся излагать основные постулаты теории строения глаза. Чем окончательно меня запутал.
Будь у меня возможность пересесть, я бы пересела. Но поскольку такой возможности не было, я – хочешь не хочешь – продолжила слушать.
Чем настойчивее он втолковывал мне принципиальную разницу между палочками и колбочками, тем сильней меня клонило в сон. Голос, тихий и монотонный, проникал в глубины моего черепа, словно сверлил дыру в височной кости…
Дальнейшее я запомнила смутно. Кажется, мне закатали рукав. В голове что-то натянулось и лопнуло порванной струной. Теряя контроль над собой, я вцепилась в подлокотники. Визгливый женский голос выкручивал мне пальцы, пытаясь их разжать. Невыносимая боль понуждала меня прекратить сопротивление.
Я готова была сдаться, когда на краю моего мерцающего сознания разверзлась черная дыра. Захлебнувшись на фальшивой ноте, визгливый голос пронзительно вскрикнул и смолк.
Сквозь дыру в алюминиевой обшивке ворвалась струя ледяного воздуха и свернулась в маленький смерч – стремительный, как балерина на пуанте, он пронесся по салону и походя, не прикладывая усилий, вырвал крепежи моего кресла из кренящегося над бездной пола.
Последнее, что я увидела, – круглое личико коротышки, прильнувшее к стеклу иллюминатора. Его кривила гримаса зависти [4].
Увлекаемая воздушным потоком, я жадно всматривалась в небо. Его неподвижный купол, образованный сферической земной атмосферой, раскрывался у меня над головой, мигая мириадами звезд. Блуждающие россыпи собирались в знакомые созвездия. Я узнала обеих Медведиц: разделенные изгибом Дракона, они сияли, как драгоценные ожерелья на черной муаровой подложке; как знаки древнего алфавита, из которых старый кёнигсбергский профессор, вечный идеалист и противник скептицизма, смастрячил свое знаменитое завещание. Интересно, что бы он запел, дожив до наших дней?..
Между тем, местами светлея, небо заволакивалось кучевыми облаками. В прорехах облачной ткани бледнели, словно таяли созвездия. Стремясь занять командные высоты, день двигался короткими перебежками, то буквально наступая на пятки ночи, то замедляясь под воздействием гравитации, которой он, ежеутренний сменщик ночи, отдавал предустановленную дань.
Сидя в кресле, как гонщик в эргономичном болиде, я близилась к финишу. Разряженный воздух бродил у меня в крови, точно веселящий газ. О том, что это может быть побочным эффектом разгулявшегося по венам и капиллярам препарата, я старалась забыть, как о чем-то несущественном, не оказывающем на меня особого влияния. Пока не доказано обратное, презумпция не хуже любой другой.
Иллюзия близкого рассвета наполняла мои легкие парадоксальной надеждой: неизбежное падение – не худший выход из тупика, в который я уперлась, пытаясь справиться с гнетущей действительностью. Она навалилась на меня как рухнувшая крепостная стена; как могильная плита, на которой выбиты имена моих покойных родителей, – не это ли имел в виду кладбищенский рабочий, когда вдобавок к ежегодному фотоотчету прислал одну за другой две эсэмэски, уведомляя меня о том, что под напором влаги, проникшей в поры не идеально обработанного камня, плита дала трещину, однако не настолько глубокую, чтобы пороть горячку, дело терпит до осени, а то и до весны. Кому могло прийти в голову, что стрелка годового круга остановится, замерев на февральской отметке?
Теперь, когда это стало очевидно, я готова была признать, что допустила непоправимую ошибку: вместо того, чтобы действовать, положилась на мнение постороннего человека.
Я, ленивая и недальновидная дочь, пошла у него на поводу.
Запоздалые сожаления отвлекали меня от созерцания окружающей красоты. Ее картины не складывались в единое целое: каждая являла собой болезненный изгиб – судорогу былого величия, растраченного на демонстрацию собственного превосходства перед лицом уходящей за линию горизонта тьмы. Устрашающий театр теней громоздился на боковинах облаков, всякое мгновение рискуя сорваться с крутизны, – но каким-то чудом не срывался, предоставляя это сомнительное право мне.
Измотанная жестокой болтанкой я ждала избавления, как безнадежный больной, подключенный к аппарату искусственного дыхания, ожидает конца земных страданий, – но из теснин облачной гряды меня выносило навстречу новым невиданным пейзажам. Все более грозным по мере приближения к земле.
Страх, мучивший меня на борту самолета, уступил место любопытству, с коим я взирала на контурную карту Восточного полушария – ниже Северного полюса, но выше экватора: занимательное зрелище, похожее на гугл-прогнозы. С той лишь разницей, что теперь у меня не было защиты: я чувствовала себя игрушкой в руках мироздания – объектом язвительной ухмылки, с которой насмешница-природа переиначила мои отложенные напоследок планы: вместо подлинника некогда великой и могучей цивилизации, испещренного загадочными линиями и символами – хоть и присыпанного песчаного цвета пылью – она подсовывала мне жалкий суррогат. Простираясь на десятки, если не сотни километров, он являл собой картину тотальных разрушений; с высоты это выглядело сущей бессмыслицей: черно-белые руины без каких-либо опознавательных знаков; руины, лишенные красок. Прошло какое-то время, прежде чем я догадалась, что загвоздка не во мне, а в перепадах давления, к которым я вынуждена была приспосабливаться: как команда тонущего корабля первым делом бросает за борт балласт, так и мой организм решительно расправился с колбочками, отвечающими за различение спектральных цветов.
Картина разрушений, усугубленная моей баротравмой, мало-помалу прояснялась. Из-под клочьев тумана проступали черно-белые останки еще недавно жилых домов. Сплошная полоса пожарищ, присыпанная снегом и гарью, тянулась поперек континента: полоса отчуждения, граница между «тем» и «этим» миром. Вопрос, адресованный ветру: где, по какую сторону я окажусь?
Ответом – звук тишины. Он сильный, как зов смерти, и слабый, как голос разума; резкий, как верещание будильника, и одновременно тихий, как звон церковного колокола; неустойчивый, как равновесие, лихорадочный, как пульс.
Ты не знаешь, зачем нас вызвали?
Сказали, для опознания.
Для