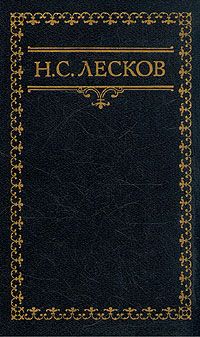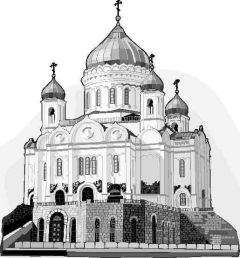Все шло благополучно: синодальный секретарь уже «часа полтора» похаживал у вельможеских ворот, зазирая во двор и укрепляя себя предположением, «что такие сановники имеют много дел и дома за полдень не сидят».
Основательное знание светских обычаев своего времени его не обмануло: «через полтора часа я, действительно, увидал, что к подъезду подали карету и его высокопревосходительство скоро вышел и уехал».
Тогда синодальный секретарь живо бросается к своему извозчику, – «нимало не медля сажусь, подъезжаю к крыльцу и спрашиваю: дома ли? Отвечают: сейчас выехал. Прошу, чтобы доложили, что был такой-то, и отправляюсь домой.
За обедом говорю генералу, что был, но не застал, и велел доложить, что приезжал.
Генерал, по обыкновению доверчивый, не спросил, в каком часу я был, а сказал:
– Что же, вы свое дело сделали. Побывайте когда-нибудь в другой раз, и постарайтесь лучше в праздник, – тогда застанете вернее.
Я отвечал, что постараюсь, но стараться не думал.
Маневр мой кончился благополучно, но долго ли? Это задача. Красавица не удовлетворится приездом, – проникнет мою хитрость и протолкует мужу, что это насмешка. Разгневанный муж встретится с генералом и наговорит или даже наделает ему кучу неприятностей. Тогда что? Тогда чем я защищу себя? Чем прикрою истину моего чувства к красавице? (!) Мне не поверят, а разоблачать истину – сочтут клеветой… Я вооружу против себя двух сильных людей, которым легко задавить меня как червя»…
Несчастному пришлось жалеть, для чего он некогда похвалялся красавице, что «жениться не намерен, но любить может», и притом еще жаждет близ нее «отрадной теплоты». Вот оно, это разбитное удальство, выразившееся в кичливом пустословии, которое неосторожно начертано им собственною его рукою в любовной эпистолии, теперь и восстанет против него уликою, как оторванная пола платья Иосифа. А тогда и поминай как звали синодального волокиту, хотевшего сесть не в свои сани…
«Отрадной теплоты» опять нет, а между тем огонь уже сожигает его оробевшее сердце и рисует ему погибель, страшнейшую той, которою окончил дни свои опаленный страстью малоросс.
«Да, я зашел далеко, – пишет в укоризну себе Исмайлов, – у меня закружилась голова и я упал духом.
Не видя исхода, я винил себя во всем – и в неосторожности, и в трусости, и в преступлении противу чести данного слова.
Сдавленный черными мыслями, я ходил как убитый и близок был к отчаянию, если бы судьба скоро не сжалилась надо мною».
«Благодать преобладает там, где преизбыточествует грех», и наичаще она проявляет свою спасительную силу именно тогда, когда все соображения и расчеты человеческие уже кажутся несостоятельными и бессильными.
«Генерал (Капцевич) поехал с визитами и, возвратясь домой, прямо приходит в мою комнату», что, очевидно, случалось не часто, а только в экстренных обстоятельствах.
Генерал был сильно взволнован и заговорил с синодальным секретарем в особливом тоне.
«– Слышал ты, – спросил он, – что случилось с твоею приятельницею, madame такой-то?
Я чуть не упал со стула, вообразив, что несчастная моя проделка открылась». Но на самом деле «открылась проделка» не Исмайлова, а его немилосердной мучительницы. Энергическая дама эта в «междучасие» своей охоты за синодальным секретарем, целомудрие или осторожность которого ставили ей досадительные преграды, не теряла из вида и других шансов и устроила где-то что-то невозможное и превосходящее всякие описания.
Она «проштрафилась» и произвела какой-то трескучий скандал, «совершенно уронивший ее и ее высокопоставленного мужа».
«Генерал продолжал: приятельница твоя проштрафилась. Что она сделала – это держат в секрете; но ей уже отказали в приезде ко двору. Дурных толков о ней полон город. Удар для нее и для мужа жестокий. Хорошо, что ты не застал этого гордого старика волокиту, – ввязали бы и тебя в ее скандальную историю. Говор стоит во всех лучших домах, и доброго ничего не говорят».
«После этого я выпрямился и, ободрившись, рассказал генералу откровенно и в подробности все свои отношения к красавице. А чтобы поддержать генерала в невыгодном о ней мнении и прикрасить свой обман (sic), я объяснил настоящую причину смерти родственника его (несчастного малоросса) и признался, как я схитрил, чтобы не застать нежного мужа красавицы в доме.
– Развращенная женщина! – воскликнул генерал, но, немного подумав, прибавил: – Правда, красота – великое искушение для женщин, и трудно им – этим скудельным сосудам – устоять против беспрестанных соблазнов. Едва ли в тысяче найдете одну, которая бы до конца жизни умела сохранить свою непорочность. Мы, мужчины, требуем от них чистоты, но не мы ли сами их и губим, на них одних возлагая всю ответственность»…
Добрый старичок, за минуту так расходившийся на «гордого волокиту» и на «развращенную женщину», «вздохнув, замолчал и поник головою».
Генералу стало ее жалко, быть может, как мне и вам, мой читатель!
Быть может, он что-нибудь вспомнил, о чем не мешает вспомянуть каждому, кто готов «бросить в нее камнем».
А что сделал распрямившийся синодальный секретарь?
«Я торжествовал, – пишет он, – мое дело сошло с рук легко. Красавица и ее муж более меня не тревожили, и я их уже никогда не видал».
Недаром, видно, держится у нас на Руси поверье, что военные люди почему-то способны относиться к слабостям и несчастиям человеческим добрее, чем иные, «опочившие в законе».
Этим собственно я предполагал и заключить пересказ брачных историй, отмеченных в записках синодального секретаря Исмайлова, но одному неожиданному обстоятельству угодно было дать мне возможность еще продолжить дальнейшую любопытную историю моей героини. Это я исполню уже не по писаниям синодального секретаря, а по устному преданию достопочтенного человека, которому лица, упоминаемые в записках синодального секретаря, показались небезызвестными.[6]
Достопочтенный современник «очаровательной смолянки», старец, достигший тех лет, когда уже сами года служат порукою за истину рассказа, – говорит, что «лицо героини ему знакомо» и что она могла совершить все, что описывает Исмайлов, «ибо совершала вещи, гораздо более превосходящие вероятие». У Исмайлова, по словам современника, эта отчаяннейшая и в то же время милейшая женщина «описана грубо». Очевидно, говорит он, синодальный секретарь семинарского воспитания не мог понимать эту прихотливейшую смесь добра и зла, коварства и простоты, ангельской прелести и демонического обаяния. Это была душа, способная уноситься до высокого самоотвержения и падать до самых низменных нечистот нравственного ада. Ему помнится, что едва ли не для нее был сочинен романс:
То ночь не спит, то день зевает,
То холодна, то жжет в ней кровь.
То смерти ждет, то жить желает,
То всех чужда, то любит вновь.
И т. д.
То в монастырь, то в ад летит.
Любопытный рассказ образованного современника не изменяет общего характера этой странной и страстной особы, но он окрашивает ее более ей соответственным колоритом, в котором ее безумные прихоти и увлечения всем, что попало en regarde amoureux[7] делаются понятнее, мягче и, если не становятся извинительными, то, по крайней мере, вызывают к ней порою глубокое сострадание.
Любопытен в этом рассказе и ее супруг. Этот «государственный муж на пробках и на вате», которого генерал Капцевич то боялся, то называл «гордым волокитою», являет в своем характере странные, но симпатичные типические черты другого, более раннего, «Александровского века». При недостатках, что он должен был заменить у себя «ватою и пробками», он умел быть милым и приятным, умел любить и был действительно любим даже ею, среди ее неистовых безумств, уронивших ее и его в петербургском свете непоправимо.
Словом, жизнь «очаровательной смолянки» далеко не исчерпана записками синодального секретаря, встреча с которым составляла в ряду ее затейных упрямств один эпизод, и притом, конечно, весьма неважный. «Это была еще проба пера и чернил». Все, в чем она успела до сих пор проявить свою сорванцовскую энергию, совершено ею почти на самом расцвете жизни, «когда ее темперамент и воля были еще сравнительно слабы и несмелы». Удаление ее от двора и отвержение высшим кругом русского светского общества последовали, когда ей не было более двадцати трех лет, а натура ее была не из тех, которые способны киснуть и плакаться о репутации. Ничто совершившееся не занимало ее размышлений надолго: что раз прошло, то все равно как будто и не бывало. Поэтому она не грустила и не дала себе затеряться или увязть в бесплодных раскаяниях и сожалениях. Напротив, она смело шла далее своим путем, только при более окрепшем уме и какой-то угарной смелости. Ненасытимая жажда приключений ставила ее не раз лицом к лицу с невообразимым сбродом и потом вдруг останавливала на ней внимание Наполеона III. Это было в Париже около 1850 года когда она была уже снова вдовою и ей исполнилось за сорок лет. Она и тогда была еще столь очаровательна, что заставила президента среди его борьбы с Кавеньяком и рискованных хлопот об уничтожении законодательного собрания, выучить для нее на бале «три русские слова»: