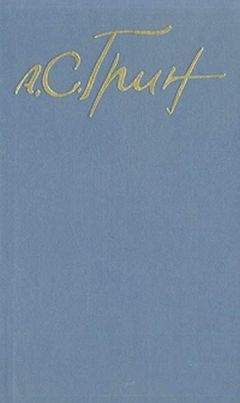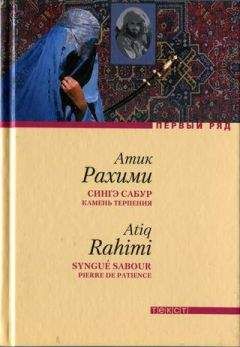— Лиза, я плохо сознаю сейчас, как я, где я. Я счастлив тем, что вижу вас. Но мне тяжко, что после десяти месяцев я не смею просто подойти к вам и радоваться. Я вот должен сидеть и спрашивать, как чужой объясняться. Скажите же, что произошло, почему это письмо?
— Как вы разыскали меня? — быстро спросила, девушка.
— Человек не иголка, — грустно ответил Рылеев. — Так мы чужие?
— Я вам писала. Не нужно было, Алексей, приезжать, спрашивать меня и мучить. Все кончено между нами.
Рылеев побледнел, улыбнулся и опустил глаза. Последние слова Лизы подняли в нем бурю упрямого отчаяния. Нестерпимо захотелось в горячих, отчаянных словах бросить всего себя к ногам женщины, но еще что-то мешало этому; он заключил жизнь в границы своего чувства, и несообразным с этим казалось ему, что так прост разговор их, а между тем действительно рушится все.
Он встал, подошел к Лизе и хотел, как прежде, обнять; но девушка не шевельнулась, и руки его сами собой в замешательстве опустились.
— Вы любите другого, Лиза? — сказал Рылеев.
— Да, — виновато, по-детски сказала девушка. Глаза ее вопросительно поднялись к Рылееву, но остались чужими. Жалость и гнев овладели им: в «да» этом он был уверен, но теперь действительность посмотрела ему в лицо своими ужасными, немигающими глазами. Потрясенный, Рылеев сел. В окне мелькнул женский платок; почти тотчас же, скрипя дверью, вошла та самая баба, которую встретил в сенях Рылеев. Сложив руки под грудями, баба уставилась на Рылеева.
Щекастое ее лицо выражало припадок истерического бабьего любопытства.
— Что, хозяйка, тебе? — холодно спросила Лиза.
— Сродственник будете? — заговорила баба. — Мы ведь неученые, темные, за обращение извините; и как это завидела я, к гостям пазуха свербит и свербит; корову доила, думала: и кому же быть? А уж я вас, миленький, золотой, как и звать-величать, не знаю.
— Ступай прочь, — коротко приказала девушка.
— А ты не гордись, — вдруг вспыхнув, басом сказала баба, — чай, не писаря жена.
— Пошла вон! — крикнула, вскочив, Лиза.
Баба осклабилась, подняла руку и, навалившись спиной на дверь, исчезла.
— Все лезут, все знать надо, гады! — помолчав, произнесла Лиза.
Лицо ее оставалось еще некоторое время гневным и раздраженным; удивленно смотрел на него Рылеев — так быстро и круто менялось оно. «Та ли это спокойная, немного дичок — Лиза?» Баба стояла еще перед его глазами нудным видением. «Противно, словно в лицо плюнула», — подумал Рылеев.
— Что же, расстанемтесь, Алексей… — тоскливо сказала девушка. — Я любила вас.
— Да, расстанемся. Нет, не могу, не в силах! — почти крикнул Рылеев, и вдруг страдание его перешло предел, в котором можно хоть сколько-нибудь сдерживаться; с истинным, мятежным облегчением ощутил он, что дал наконец волю себе и не остановится, пока не скажет всего.
А когда заговорил, то увидел, что и не подозревал раньше, как может сказать о любви, — это было ему чудесным подарком, откровением; без усилия, торопясь покориться озарившей, пересилившей его самого тоске, Рылеев сказал:
— Уйти я не могу. Вопреки вашей воле я рвусь к вам. Я — конченый человек, Лиза; днем и ночью я вижу вас ярче дневного света; любите вы другого или нет, ненавидите меня или нет — я не могу разлюбить вас; с тоской и страхом думаю я теперь, что мог жить вдали. Где бы ни были вы — в радости или горе, в позоре, несчастии, нищете или довольстве, — как бы ни относились к вам другие, если бы даже имя ваше произносилось повсюду с отвращением и стыдом, если бы вы стали безобразной, слепой, если бы вы мучили меня всю жизнь, — никогда я не перестану любить вас. Ведь у меня не было счастья; все, что сохранила память от моего прошлого с вами, вы теперь разрушаете и молчите. Я — мужчина, жизнь давалась мне нелегко, везде горбом с детских лет, очерствело сердце, а между тем я думаю, что хорошо плакать, но нет слез. Как хотите, так и думайте обо мне. Я все отдам вам, Лиза, — все будущее мое, всего себя, буду жить с вами — и буду этим так горд и счастлив, как никто на земле. Всегда, неотступно я буду представлять вас только на моих руках, у сердца. Скажите мне, Лиза, доброе слово по-прежнему.
Лиза болезненно улыбнулась, лицо ее стало осунувшимся и печальным.
— Вы все забыли, — хрипло сказал Рылеев, — а я все помню. Когда я уезжал, у вас было вот такое же, как теперь, лицо.
— Как забыла? — сказала девушка, рассматривая чайную ложку. — Нет, не забыла, конечно. Вас так долго не было возле меня. Много легло между нами.
— Неправда, — задумчиво ответил Рылеев. — Что хочет человек, то и делает. Но я стал чужой вам.
— Я ничего не знаю. Мне больно, очень тяжело, Алексей. Оставьте меня.
— Я уйду, — сказал после короткого молчания Рылеев. Он встал, дрожащими, неповинующимися пальцами застегивая пуговицы пиджака, хотя в этом не было никакой надобности. — Вот и все.
— Простите меня, — плача, сказала Лиза. — Или нет… Вы где остановились… в городе? Подождите там два-три дня, я напишу вам или приеду.
— Зачем? — похолодев, как от оскорбления, произнес Рылеев. — Милости я не прошу, не надо.
— Вы не понимаете, — быстро раздражаясь и топая от волнения ногой, заговорила девушка. — Не напишу и не приеду, и так может быть. Но подождите… ради себя… Я здесь на заводе служу в конторе, мне идти надо…
— Лиза, — просияв, сказал Рылеев и протянул руку. Девушка скользнула по этой протянутой руке своей — маленькой, горячей, как у больного ребенка, — и спрятала за спину.
— Не надо, не надо ничего, — полушепотом произнесла она. — Уходите. Уходите. Пожалейте меня. Уйдите.
Несколько мгновений, как оглушенный, неподвижно стоял Рылеев, смотря на опущенную темноволосую голову, потом отвернулся, толкнул дверь, и прохладный воздух сеней пахнул в его разгоревшееся лицо свежей волной. Рылеев медленно вышел на улицу. За изгородями переулка, на выгоне у реки валялись, лягая копытами, жеребцы; летний цветистый блеск солнца резал глаза. Неверными шагами, как избитый, Рылеев вышел к огородам, не заботясь о том, куда идет, пьяный от горя и слабости. Жизнь показалась ему вдруг отвратительным сном.
«Зачем я здесь, в каком-то селе?» — подумал Рылеев.
Лиза, опустив голову, сидела перед ним всюду, куда он обращал глаза: на сложенных у изб бревнах, в дорожной пыли, на картофельной зелени. Но была, смутно бередя душу, тень сомнения в том, что все кончено, — тень уродливая, без радости, улыбок, отчаяния и надежды.
VIIРабота не клеилась у Звонкого. Сумрачно поплевывал он на клин, острил его, метился при ударе быстро и точно, но или руки не слушались, или выскакивал, как тугая из шипучего вина пробка, клин, или в обрезке сырые слои, проеденные сучками, закручивались штопором, и не раскалывался обрезок. Звонкий повалил четыре сосны, обрубил сучья, распилил на куски стволы — и все с помехой: заедало пилу, соскакивал с топорища топор, и долго отшибленные ныли пальцы.
Близился сырой, полный мошкары вечер. Неподалеку от Звонкого, в разлапистом просвете ветвей, над большим столетним деревом трудился Петруха — подпиливал его, взяв от земли пол-аршина. Невидимый, торопливо стучал топором Демьян. Мечтая об еде и лежке, Звонкий приходил понемногу в окончательно дурное настроение; разломило спину и шею, и стал он колотить как попало, думая: «Полсосны расколю — шабаш: рубль с четвертаком заработал». Сделав так, Звонкий сложил готовые дрова в поленницу и с папиросой в зубах пошел к Петрухе.
— Айда чай пить, — сказал Звонкий. — Будет и тебе, Петруха, горб мылить.
— Вот спилю, повалю.
Петруха крепче забил в щель клин, встал, взял то? пор и сделал на другой стороне дерева глубокий рубец; теперь, чтобы сосна упала, следовало добивать клин. Ломаясь на рубце, ствол падал.
— Коська, — сказал Петруха, бросая топор и ссыпая в ладонь из кисета остатки махорки, — пойдем на прииска, надоело мне тут… Лодырь ты, — прибавил он, усмехаясь, — наплачешься с тобой в товарищах.
— Я и один не пропаду, — сказал Звонкий, — везде с народом был, жил, жив, слава богу, мать твою курицу, в Баке с татарами жил.
И от скуки захотелось ему поговорить так, чтоб другому завидно стало.
— Мазут из фонтана добывают, — помолчав, сказал он, — сверлом землю долбят, на канате махает, так вот в нутро и облицуют трубой, а мазут спертой как дрызнет из низов, снесет постройку, на полверсты в небо хвостом все зальет, и надо его убрать. Тогда канавки роют, а по канавкам в лезервуары; день и ночь в канавке стоишь, сор отбиваешь, чтобы не засоряло. Три рубля день, пять рублей ночь, восемь целковых сутки.
— Рубли-то маленькие, — недоверчиво сказал Петруха. — Брехун ты, много получаете, да домой не носите.
— Мял с тебя с сосны за три версты. Я, голубь, две тройки тогда купил, за одну на Солдатском базаре сменку дали, так и ту барину не стыд надеть.