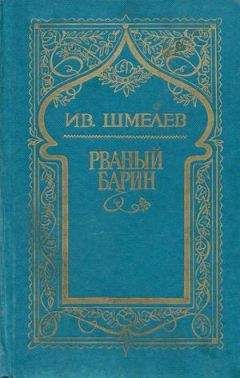Летом мы не ездим на дачу. У нас на заднем дворе небольшой садик, где растут четыре березы, бузина и несколько вишневых деревьев, где в углу, у забора, стоит старая беседка с цветными стеклами. В беседку забирается Леня и читает в холодочке, а мы виснем на березах и швыряем пылью в прохожих за забором. У забора растут грибы – шампиньоны. Я их открыл и помалкиваю, чтобы сделать сюрприз.
Кроме того, я сделал еще открытие. В беседку проникает через забор с улицы тоже реалист, сын хромого портного, худой, рыжеватый мальчик с длинным носом и в смятой кепке. Это Ленин товарищ. Он почему-то боится зайти в дом, и Леня водится с ним украдкой. Эта таинственность очень мне нравится. Я готов помогать им в их делах, должно быть, очень важных и опасных. Но они только читают книги и говорят что-то непонятное. Когда я приближаюсь к беседке, меня гонят, и я обещаюсь «все» рассказать, а они оба кричат:
– Дурак!
И получают ответ:
– А вы нигилисты!
Они смеются и спрашивают:
– А что такое нигилисты, ну?
– Жулики… Мне Гришка сказал. Жу-ли-ки!..
– Вот осел-то! Поди-ка сюда…
Но я уже висну на березе и пою:
– Жулики… ни-ги-ли-сты… ску-ден-ты!..
Это тоже ругательное слово на нашем дворе. Еще сегодня Гришка крикнул на оборванца:
– Скудент, рваный черт!.. – и замахнулся метлой.
Я теперь знаю много замечательных слов: лахудра, прохвост, нигилист, скудент и другие. Но есть еще слова, которые мне совестно произносить, хотя я и не понимаю их. Я только догадываюсь.
Каждый день я делаю новые открытия. Играя в палочку-выручалочку, я забрался на сеновал и застал там нашу горничную Пашу, от которой всегда пахнет черемухой, и Гришку. Они играли сеном. И когда я спросил, что они тут делают, Паша, вся красная, стала быстро-быстро застегивать кофточку и оправлять волосы, а потом вдруг стала просить меня, чтобы я никому, никому не говорил; Гришка же стоял в сене, потягивался и улыбался.
Я подозреваю, что они что-нибудь утащили и прячут в сене. Теперь я буду хорошенько следить за ними, как делает Леня, который всегда поглядывает на свою горничную Грушу и даже раз вечером, в саду, когда та пришла звать его ужинать, хотел вывернуть у ней карман в юбке, а она не давалась и все просила:
– Ах, барин… да оставьте… увидят…
Это уж верно: эти горничные всегда что-нибудь прячут в своих карманах.
Теперь я узнал, почему реалист, сын хромого портного, перелезает через забор. Это потому, что он – мещанинишка.
Недавно, когда я смотрел, как запрягали Стервеца, дядя Захар пил чай на галерее и кричал:
– А вот тб!.. Ежли еще увижу – и выгоню!..
– Он мой товарищ.
– Всякий мещанинишка тебе товарищ!.. Ты отца не срами… Я заводчик, купец… а ты мой сын!.. А он – мещанинишка!.. Его отца я подлецом ругаю и с лестницы могу спустить…
– Это самодурство!..
– Еще скажи!! щенок!.. От меня он питается!.. Его отец моему Архипке портки шьет, а тоже… в бары норовит… в училище отдал!., всякая шваль!..
– Он у нас из первых… Ему стипендию дадут…
– У вас!.. А у меня он дальше кухни ходить не может… Молчи!!. – крикнул дядя. – Огрыза!
– Мы сами из мужиков…
– Молчать!.. Да, из мужиков… А он мещанинишка!..
Мещанинишка… Это, должно быть, что-нибудь нехорошее. Так как это нехорошее, то я не решился спросить дома, а отправился к Гришке.
Гришка живет в комнатке у ворот, где у него под досками валяются пустые бутылки, и куда иногда забегает спать в холодочке какая-то горничная из трактира, в красных туфельках и румяная.
«…и го-ло-ва… у е-го… и… ус… от-ско… сускочила и…»
– Гришка…
– Погоди… дай до большака дойтить… «и разе-ва»… разинув… так… «ро-т… по-ка-ти»… по-катила… «с лес-тни-цы»… Ловко! Ну, что тебе?..
– Видишь что… Ты это про солдата читаешь? как спас царя от разбойников?..
– Ну, про солдата… А тебе чего?..
– Вот что… Что это такое – мещанинишка?
– Мещанинишка? – важно спрашивает Гришка, развалясь на рогоже и свертывая «фунтик» для махорки. – А еф-то значит, еф-то значит… ефы-то значит мещанин!.. А тебе на что?
– Так. Я знаю… это который лазит через заборы?
– Хо-хо-хо… на манер жулика!..
– Да?., это… вроде жулика?..
– Ха-ха-ха! – покатывается Гришка. – Мещанин… это который кошке заду прищемил.
– Ты дурак. Я скажу, что ты с Пашей в сено прятали вещи.
– Пффсс… – прыскает Гришка. – Ве-щи… Ха-ха-ха…
Он так гогочет, что я начинаю обижаться.
– Так что же это, а?..
– А то. Вот ты понимай… Стоит двор, во дворе забор, на заборе книжка, а в книжке сидит Гришка… так?..
– Ну?..
– Ну… и сидит… и сам себе, сталыть, говорит: «Гришка, Гришка!., чья за ата за самая за книжка»?
– Ну?..
– Ну… Книжка эта матери Марей… А ты, Миколя, иди-ка отседа поскорее… а то блоху посажу!..
Он опускает руку за пазуху, и я стрелой вылетаю из каморки.
Так я и не мог ничего узнать, кроме «мещанина».
V
Ходит страх…
Да, сегодня во всем нашем доме ходит какой-то неопределенный, жуткий страх. За чаем не говорили ни слова, часто подходили к окнам и смотрели на улицу. Вызывали кучера и спрашивали:
– Ну, как?.. ничего?
– Да, вить, как сказать… опасаются. Дворников в часть скликали… беспременно чтоб на часах…
– Ворота запереть!..
Все вздыхают, не выходят из дому. Страх захватывает и нас. Пробуем начать бой подушками, но выходит скучно, и мы рассаживаемся на подоконники и глядим на улицу. Там тише, чем обыкновенно. Гришка, с бляхой на картузе, стоит на мостовой и сторожит.
Что же это все значит? Наша Домна часто вытаскивает из своего глубокого кармана тряпочку и трет глаза Мы спрашиваем ее.
– Царь-батюшка преставился… Царство небесное…
Это известие страшно поражает нас. Царь помер! Тот царь, с хохлом на голове, портрет которого висит в столовой. Это тот царь, который все может; может казнить и делать все, что хочет, как говорила нам раньше Домна. Его поставил Бог. Я не могу понять, как это он мог помереть. Ведь это не простой человек: его поставил Бог, – значит, это что-то особое, знакомое с Богом, как святые и угодники. Он ходит в золоте и ест на золоте, и ест не то, что едим мы. Мы даже затрудняемся придумать, что он может есть: все так обыкновенно. Это даже не человек, а только имеет вид человека. Это что-то особенное.
А Домна мыкается, плачет и причитает. В меня проникает ужас. Что теперь будет без царя? Теперь все погибло, и нам всем грозит беда, гибель. Оттого все шепчутся, сторожат на улицах и ждут. А вдруг придут «враги» и всех нас… перережут? Конечно, это о них спрашивали за чаем.
«Царствуй на страх врагам»!..
Мы еще недавно распевали эту песенку. Ну, теперь какой же врагам страх? Царь умер.
– А могут они… прийти? – спрашиваю я Домну.
Она не отвечает, гремит щеткой под стульями и шмыгает носом.
– Домнушка, скажи… могут, а?.. Нет, ты скажи… могут прийти, а?..
Я хватаюсь за надоедную щетку.
– Да отвяжешься ты от меня, смола!.. Ну, чего тебе? ну, чего?..
– Придут они?
– Кто?
– А враги..?
Она смотрит на меня сердито. Ей кажется, что я дразню ее.
– Вот, головешкой-то ткну вот… Пропасти на вас нету!., скачи, скачи… хрустнет нога-то!..
Я все-таки сомневаюсь. Сомневаюсь потому, что на улице не видно солдат. Если бы шли на нас враги, непременно прошли бы солдаты с трубами, как ходили недавно, когда мы воевали с турками. Но непонятный страх сидит прочно. Украдкой пробираюсь я черным ходом во двор.
Я слышу, как по городу плавает звон, не прерываясь, точно плачут колокола. Кучер Архип возится в сарае. Я вхожу. Архип моет пролетку и трет тряпкой. Я, конечно, забираюсь на козлы, смотрю на волосатые руки Архипа и задаю вопрос:
– Архип… правда, будто царь умер?
– Помер, – вздыхает Архип. – Убили вчерась в Питере.
– Как, убили?
Царь – и вдруг… Архип всегда врет.
– Врешь ты все!.. Его нельзя убить… он царь!..
– Ори еще! убили вот, – шепотом говорит Архип и оглядывается.
Я тоже оглядываюсь, но ничего особенного нет: все на местах – шлеи и дуга, вожжи и армяк на деревянном гвозде.
– Кто же убил?
– Ну вот, кто… Тебе все надоть, кто! – Он опять оглядывается. – Известно, – нигилисты.
«Нигилисты»!.. Они, те, о ком я ничего не мог узнать.
– Теперь нас будут резать?
– А ты почем знаешь?
Я чувствую, как шевелятся и покалывают волосы на моей голове. – Значит, верно… значит…
– Теперь на нас придут враги, Архипушка? Придут, а?
– Реж-публику хотят, – шепотком говорит он, стоя с тряпкой, по которой сбегают мутные струйки. – Они теперь та-кую резку зачать могут… – Он вздыхает и смотрит на свои волосатые, жилистые руки. – Ну, да уж… все пойдем!..