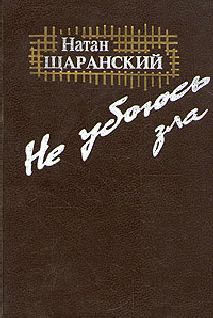Я давно уже занял в своих отношениях с КГБ позицию "мне с вами не о чем разговаривать", а потому никаких сомнений в том, как вести себя на следствии, у меня до сих пор не было. И в заявлении для печати после появления статьи в "Известиях" я вместе с другими "кандидатами в изменники" -- Диной Бейлиной, Александром Яковлевичем Лернером, Идой Нудель, Володей Слепаком -- заявил, что не буду сотрудни-чать с карательными организациями ни на одной стадии ожидаемых су-дилищ.
Но вот за пять дней до ареста ко мне пришел Валентин Турчин -- видный ученый-кибернетик, создавший и возглавивший в начале семи-десятых годов советское отделение "Эмнести интернейшнл", -- пришел, как и многие другие в те дни, чтобы проститься. И так же, как и осталь-ные, начал с утешений. Он написал мне -- ибо не хотел говорить этого в прослушиваемой квартире Слепаков: "Если в ближайшие несколько дней тебя не арестуют, то считай, что пронесло. Ведь сегодня было засе-дание Политбюро -- наверняка решение принималось на нем". Надо сказать, что до смерти Брежнева сообщения о заседаниях Политбюро не публиковались в печати. Но у Турчина были свои источники информации. И действительно, уголовное дело против меня, как выяснилось позднее, было открыто за четыре дня до моего ареста -- на следующий день после заседания Политбюро.
Затем мы стали беседовать о вероятном аресте и о том, как мне сле-дует вести себя на следствии. Узнав, что я не собираюсь сотрудничать с КГБ, Турчин воскликнул:
-- Но ведь это же обвинение не в антисоветской пропаганде, а в шпи-онаже! Наверняка будут фальсификации и подтасовки, их обязательно нужно опровергать и разоблачать!
Он высказал то, о чем я и сам думал все эти дни. Да, оставлять без ответа возможные обвинения в шпионаже нельзя, но тогда все становит-ся намного сложнее: теряется простота и универсальность моей пози-ции. Как отвечать на обвинения и при этом не сказать ничего, что КГБ мог бы использовать, если не против меня, то против моих товарищей? До ареста было, казалось, достаточно времени подумать об этом, но мне так и не удалось тогда заставить себя заглянуть в бездну, на краю кото-рой я стоял.
И вот сейчас нужно было принимать решение. "Их надо опровергать и разоблачать". Но перед кем? Перед судьями и прокурором? Им ведь все ясно заранее. А чем больше говоришь, тем для них удобнее. Аргу-менты твои они будут отвергать, факты в твою защиту -- игнорировать, а какую-нибудь полезную для обвинения фразу или хотя бы слово из твоей речи они обязательно выдернут. Так перед кем же? Перед исто-рией?..
Слова эти, мысленно произнесенные мной с иронией, в попытке по-смеяться над пафосом роли, которую отвел мне КГБ в задуманном им спектакле, и освободиться от гнетущего трагизма происходящего, в дей-ствительности лишь выдали то, что подспудно давило на меня все эти дни, видимо, не меньше, чем страх: осознание своей ответственности. И чем глубже я анализировал ситуацию, тем острее это ощущал.
Сразу же после появления статьи в "Известиях" мы заявили, что су-ществует реальная угроза новых антиеврейских процессов, аналогич-ных пресловутому делу врачей-"отравителей" в пятьдесят втором году. Но то была первая, эмоциональная реакция. Угроза осуществилась: мне предъявлено обвинение в измене Родине. И если вчера я знакомился с ним, мало что соображая от усталости, сегодня, глядя на подпись Андро-пова, я понимал: наши худшие опасения сбылись. Теперь я уже не чув-ствовал себя "споуксменом" одной лишь небольшой группы людей, на-зывавших себя активистами алии. КГБ избрал меня для новой роли: от-вечать на обвинения, касающиеся всех евреев СССР. Подхожу я к ней или нет -- было уже не важно: режиссер сделал свой выбор.
Итак, я буду говорить о смысле, целях и характере нашей деятельно-сти, отказавшись при этом сообщать им конкретную информацию: кто и при каких обстоятельствах писал то или иное заявление, кто и как соби-рал подписи, кто передавал материалы корреспондентам. Ну, а если они положат передо мной один из посланных, скажем, Шерборну пакетов -- несколько из них, в том числе и самый последний, не дошли, и я пона-чалу подозревал, а теперь был уверен, что они перехвачены КГБ, -- и спросят: "Ваш пакет?" Предположим, я откажусь отвечать. Они доста-нут из него заявления, списки отказников и тому подобное: "Ваши доку-менты?" Я и тут промолчу. Что ж, разве это не аргумент в пользу того, что наша деятельность была тайной? Ну, а если я отвечу: да, это пере-сылал я, -- а они прекрасно знают, у кого этот пакет изъят, -- не помогу ли я им тем самым топить других людей? Компрометировать помогав-ших мне иностранцев? Или, к примеру, вытащат они из такого пакета какую-нибудь явную фальшивку -- скажем, сообщение о некоем воен-ном объекте. Как доказать, что ее не могло быть там, не ответив при этом на вопрос о том, мне ли принадлежит пакет?
...Долго сидел я за столом, изобретая возможные ситуации и все бо-лее запутывая самого себя; страх, что меня могут в любую минуту вы-звать на допрос, к которому я не готов, возник вновь. Я нервничал, пы-тался собраться с мыслями, но мне это не удавалось. Гнетущее сознание свалившейся на меня ответственности, усталость и страх мешали сосре-доточиться.
Я посмотрел на шахматы. Для меня это была не только игра. Пять лет назад я защищал в институте диплом на тему "Анализ и моделирование конфликтных ситуаций на примере шахматного эн-дшпиля". "Создана первая в мире шахматная программа, разыгры-вающая эндшпиль", -- так, явно выдавая желаемое за действитель-ное, писала в своем заключении о моей работе экзаменационная комиссия.
Важным элементом этой программы был составленный по иерархи-ческому принципу перечень целей, которые ставит перед собой шахма-тист, и условий их достижения. И вот теперь я решил воспользоваться знакомым мне языком, чтобы попытаться смоделировать свою будущую "игру" с КГБ.
Какие цели стоят передо мной? Ясно, что задача "минимизировать возможное наказание" сразу отпадает: это означало бы сдаться на волю КГБ. После некоторого раздумья я решил, что целей у меня три, и при-ступил к рисованию древа схемы, начав с его вершины.
1.Помешать им.
2. Изучать.
3. Разоблачать.
Нет, пожалуй, тут я слишком занесся. Помешать -- не в моих силах. Я зачеркнул слово "помешать" и вписал гораздо более скромное "не по-могать". График постепенно становился все более подробным. Но не по-могать КГБ -- в чем? В их намерении доказать, что наша деятельность была тайной, и в попытках получить от меня показания на других. Пер-вая цель разложена на более конкретные. Каждую из них теперь надо обусловить способами ее достижения.
Я строил и перестраивал свою схему, которую назвал "дерево целей и средств", пока не сложился окончательный вариант.
НЕ ПОМОГАТЬ ИМ В их попытках представить нашу деятельность тайной В фабрикации дел против других
Что для этого требуется
Говорить о том, что побудило нас организоваться, о наших целях, подчеркивать открытый характер нашей деятельности
Не называть ничьих фамилий, не подтверждать ничего, что будет инкриминироваться другим
Разъяснять смысл нашей работы
ИЗУЧАТЬ В беседах с КГБ попытаться понять принципы и методы их работы Внимательно читать все материалы дела, анализировать и запоминать Что для этого требуется Не говорить ничего конкретного о собственной деятельности, ибо в ней я всегда был связан с другими Не лгать, не изобретать версии
РАЗОБЛАЧАТЬ Искать возможность связи с волей Добиваться открытого суда
Все это примитивное наукообразие, с помощью которого я попытался организовать свои беспорядочные соображения, может сейчас показаться смешным. Но тогда оно мне помогло. Обращение к привычной мето-дике анализа дисциплинировало мысль, и я впервые почувствовал, что смогу подчинить ей свои эмоции.
Я, конечно, понимал, что главную, беспокоившую меня трудность, устранить не удастся: четырнадцатая и семнадцатая вершины "дерева" содержат противоречивые требования. Как разъяснять смысл своей деятельности, умалчивая в то же время о конкретных фактах и обстоятель-ствах, связанных с ней? Но теперь, когда я сформулировал для себя это противоречие, оно меня смущало уже гораздо меньше. Дело теории -- указать на проблему, дело практики -- в каждом конкретном случае ис-кать и находить средства ее решения.
Я нарисовал это "дерево целей и средств" на небольшом клочке бума-ги, выданном мне утром для туалета. Загремела кормушка: принесли то ли обед, то ли ужин -- уже не помню. Я поспешно выбросил эту бумаж-ку в унитаз и спустил воду. Потом я рисовал свой график еще не раз, сверял с ним свои ответы на допросах -- и снова выбрасывал, чтобы он не попал в руки кагебешников. И так -- до тех пор, пока не отпала не-обходимость в этой подпорке, пока разработанная система не отпечата-лась в подсознании, контролирующем наши слова и поступки.
Так прошло двое суток -- шестнадцатое и семнадцатое марта. Я по-прежнему ожидал быстрого развития событий, все еще пытался предста-вить себе, что происходит сейчас на воле: в Москве, в Израиле, в Амери-ке, -- но был при этом уже гораздо спокойней. Напряжение спадало, ус-тупая место усталости. Я дремал, сидя за столом или лежа на нарах по-верх одеяла, так как расстилать постель днем было запрещено, часто просыпался от холода, с каждым разом все больше привыкая к неприят-ному моменту пробуждения в тюрьме.