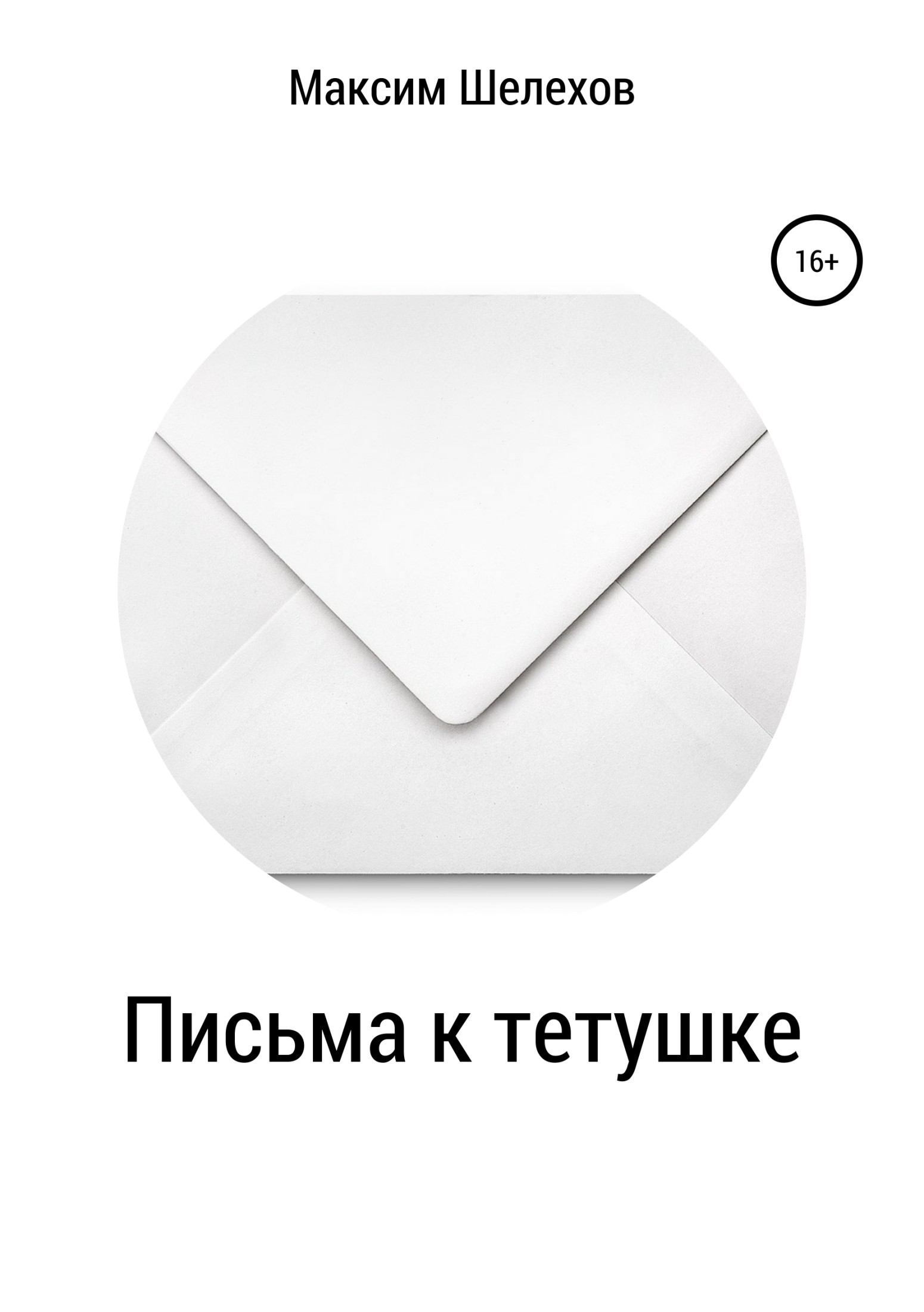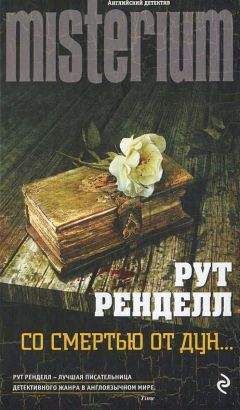этот вечер! Вот что мучит меня теперь. Каким-то непостижимым образом все мои недостатки и комплексы до сих пор умудрялись прятаться от Костиных глаз. Однако они рано или поздно проявят себя, этого не может не случиться. Что тогда будет? – С этими мыслями я еще долго не могла заснуть, не смотря на очень позднее… на очень раннее время. Весь следующий день я отсыпалась. Вечером мы с Костей были в парке, кормили лебедей. В десятом часу вернувшись, я сразу села писать вам, моя драгоценная, и вот засиделась вновь чуть не до рассвета. Благо еще завтра выходной. Люблю вас всем сердцем!
Варя.
21 октября
Вторник
Дорогая Елизавета Андреевна, вы пишите, что у Николая Антоновича едва не случился удар после прочтения моего последнего письма, а самой вам сделалось дурно. Но в таком случае, чего вы от меня ждете? Боюсь, все сведется к тому, что я лишусь удовольствия и даже потребности делиться своим сокровенным. Ведь кроме вас мне некому открыть свое сердце вполне, и вы об этом знаете, душенька. Вы, в свою очередь, перестанете знать обо мне всей правды, и из шаблонных сочинений моих будете черпать обо мне только ту информацию, что для вас сочтется приличествующей. Кто от этого всего останется в выигрыше? Может быть, только Николая Антоновича сердце. Но этот предмет по-настоящему слишком дорог и ценим, чтобы им можно было шутить, и я действительно в другой раз, прежде чем пускаться в откровения, намерена задуматься. Но вы, пожалуйста, не посчитайте меня столь вульгарной, чтобы я вам делала какое предостережение, нет, я просто глубоко расстроена и прежде всего тем невыгодным мнением, которое вы поспешили сложить о Косте. Согласитесь, тетушка, мой молодой человек никак не может быть повинен в том, что мальчики нынче наклонны носить хвосты, а девочки брить по-солдатски головы. Тоже, надо полагать, что не он двадцать лет тому назад принудил меланхолично настроенного музыканта при помощи ружья, так сказать, опустошиться. Это из того, что вас напугало особенно. Также вы обеспокоены моею позднею «гульбою». Узнаю слог Николая Антоновича. Душенька, милая, голубушка моя, призываю вас, почти патетически, утвердиться на мысли самой и внушить вашему беспокойному супругу, что Костя – это тот редкий человек, которому вы, свел бы только случай познакомиться, доверили бы меня вполне и со всем спокойствием. Жаль, что мы столь разделены расстоянием! Зная вас, зная Костю, уверяю: вы бы полюбили его всем сердцем. Что касается его, он уже «восхищен вами и преклоняется пред вами», по собственному его вчерашнему выражению.
Мы вчера с ним так тепло, так душевно поговорили! Рассказали каждый о себе. Я поведала Косте о нашем житье-бытье в Покровске, о том счастливом времени, когда я была с вами неразлучною, душенька. Еще я показала ему черновики моих к вам писем, от существования которых он пришел в неподдельный восторг. Он честно признался, что и вообразить себе не мог, будто кто-то и поныне способен вести переписку, по почте, «в обход всех технологий». (Так он выразился.) Хвалил мой слог, говоря (конечно, чтобы сделать мне приятно), что теперь ему стыдно за свое сочинение и что он теперь «никогда не решится показать мне и строчки». «Кстати!» – подхватила я. «Нет-нет, теперь нет, теперь никогда!» – заупрямился Костя. Но вы-то знаете, тетушка, каковой я бываю, когда что-то происходит не по моему. Тем более, «когда я ему столько доверилась и открылась!» Таки сдавшись, Костя согласился мне представить один отрывок, сочиненный им этим утром, «произошедший», как он сказал, совсем невзначай, от необыкновенного беспокойства душевного, с которым он вдруг проснулся. Я вам намерена этот отрывок представить, у меня есть его список. Наперед прошу, что касается, прежде всего, Николая Антоновича, привыкшего все мерить по одному только Пушкину и потому во всем находить недостаток, хотя раз, в виде исключения, судить не по стилю изложения материала и его художественной совершенности, а по чувству и настроению, которые попытался вложить в свои строки молодой, начинающий автор. Костин отрывок имеет название:
Нехорошее предчувствие
Утро. Утро раннее. Утро обыкновенное, обыкновенное крайне. Утро удручающее, удручающее чем-то неведомым, чем-то недоступным конкретному описанию.
Представьте на время коротенькое, на то самое время, которое мне необходимо, чтобы проводить вас в состояние иное, в состояние необыкновенное, от вас далёкое, надеюсь, в состояние тягостное: когда клетка грудная, сужаясь, сдавливает, расширяясь, сдавливает сильней; когда плохо постоянно, постоянно тошнит, но не так тошнит, как при пищевом отравлении, когда два пальца собственных глубоко во рту – лучшее лечение. Нет, совсем не так. В этом случае, в моём случае, отраву так просто не достанешь, она не собрана в одном месте, она уже давно за пределами желудка и его каналов. Она, зараза эта, паразитирующая, питается соком внутренним; она везде, в каждой клетке, в каждом сосуде. Она чрез слёзы способна выйти, чрез сопли, слюни, но в количестве настолько ничтожном, что и не почувствуешь, – тошнота не отступит, никуда не денется, будет также давить на гортань изнутри, будто жгут снаружи, хохоча, естественно, хохотом своим неестественным, внутренним, будет сдавливать уши снаружи. Пульсация в мозгу – единственное, что способно заглушить тот хохот, тошнотный, внутренний. Она стучит беспощадно, пульсация эта, барабанит, в то время как тот, кто на плечах сидит, – неведомый кто-то, ноги на шее скрестивший, – начинает крутиться, вертеться, ёрзать, создавая тем неудобства. Неудобное давление постоянное – это уже чересчур обременяющее. Начинаешь предпринимать попытки, бросаешься в меры крайние, дабы сбросить этого кого-то неведомого, ноги скрестившего, ляжками своими шею сдавливающего, с каждым днём, часом, минутой, всё сильнее. Меры крайние в себя включают движения судорожные, с помощью которых пытаешься – пытаешься будто – раскачать тело собственное, раскачать, да посильнее, так, чтобы не удержался этот кто-то, пал ниц на самое дно колодца, того колодца, на то дно, в ту почву, чтобы провалился, в которой сам же и погряз ты по самые щиколотки, и даже выше, в той почве чтобы утопился, которая мешает действовать судорогам, судорогам, которые величаешь спасительными, тем, что и не судороги вовсе, а движения плавные, вынужденно стали таковыми, – вынудила их почва дна, вынудила трясина.
И если вы представили на время коротенькое, на то самое время, что мне необходимо было, чтобы проводить вас на дно колодца, погрузить по щиколотки, и даже выше, в трясину, чтобы вы не смогли своими движениями судорожными сбросить неведомого кого-то: ёрзающего, крутящегося, порождающего неудобства, что уже чересчур, что хуже барабанящей пульсации, хуже тошноты, которую посредством пальцев двух