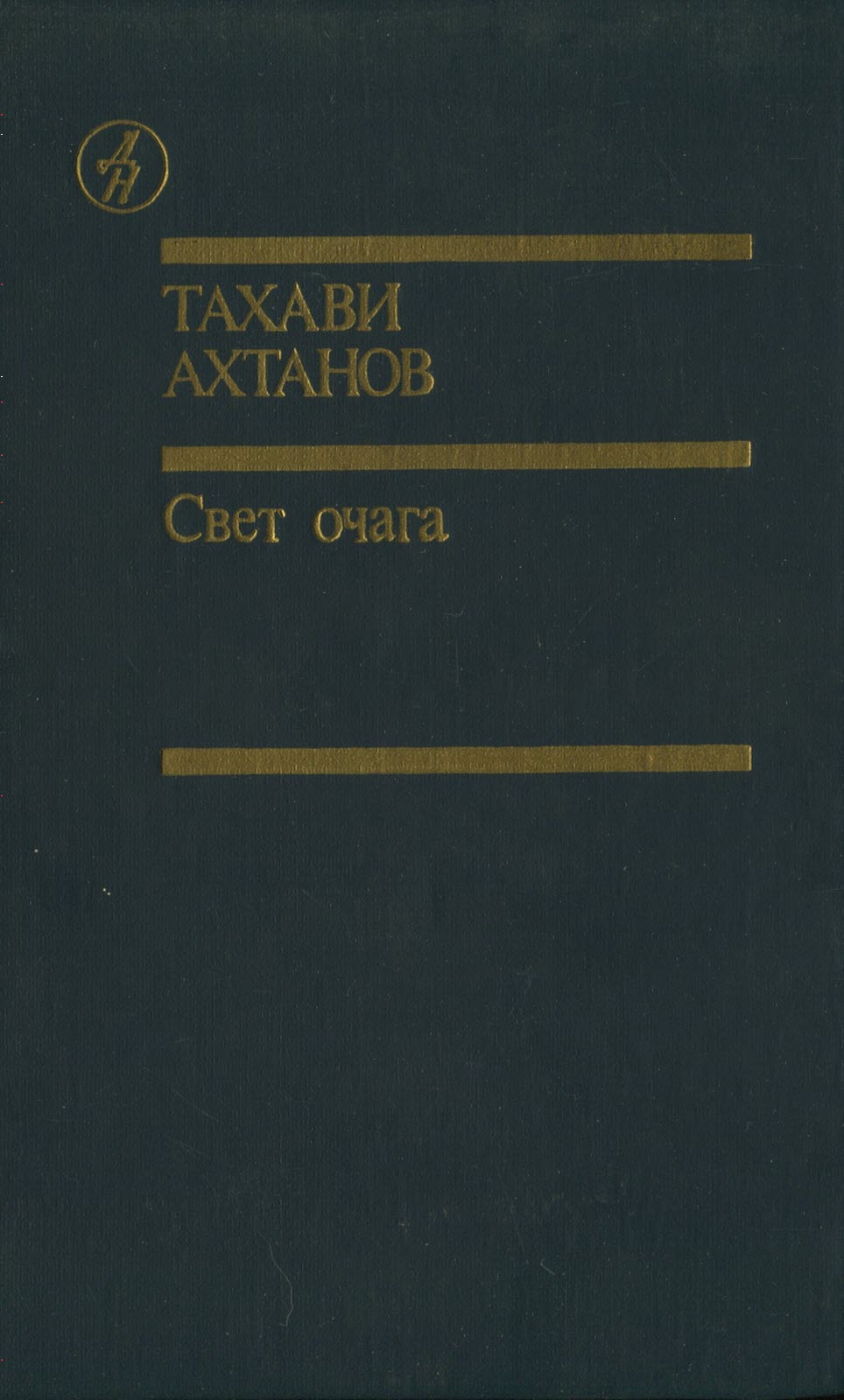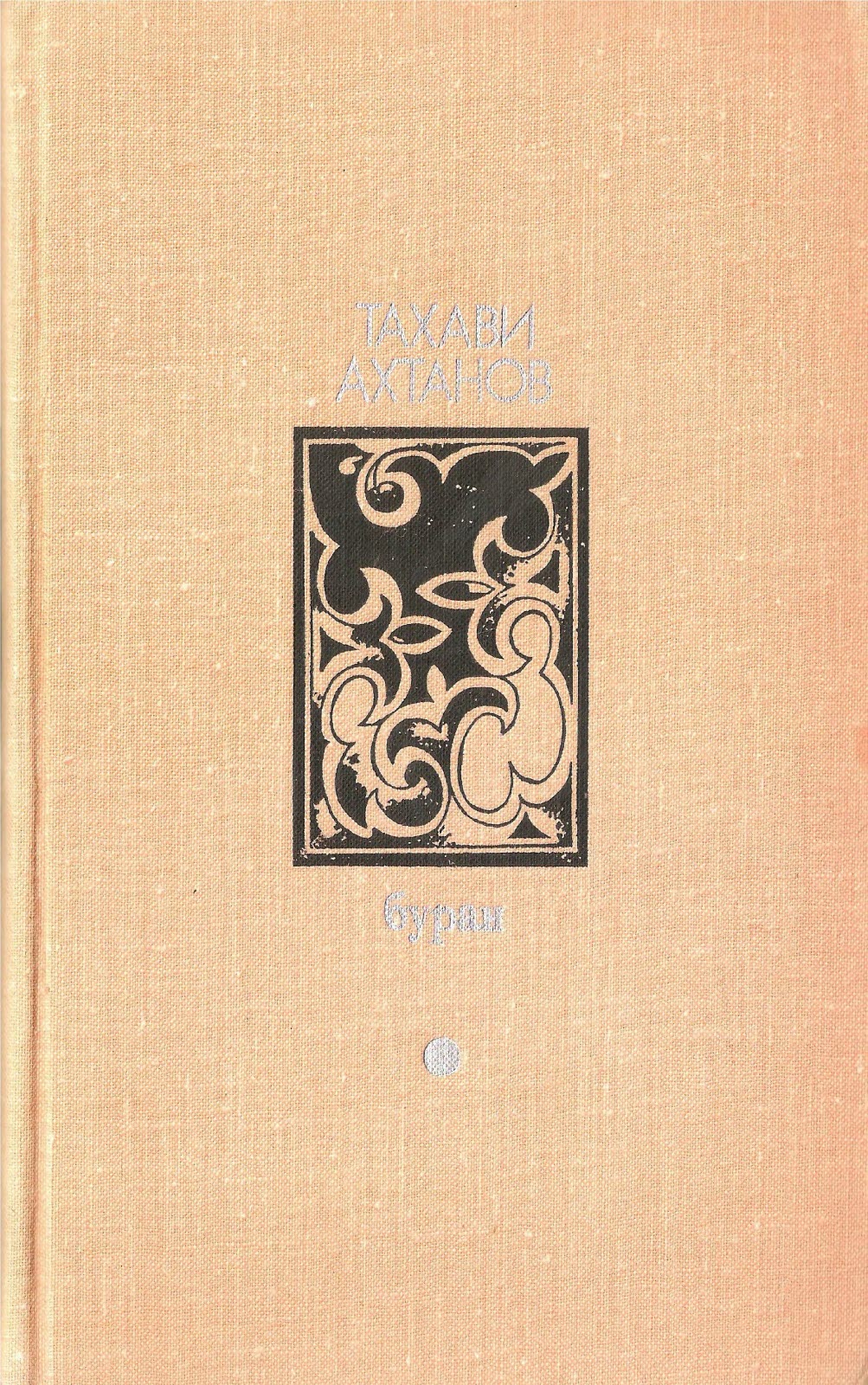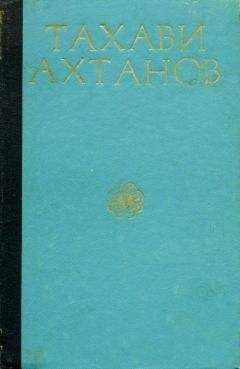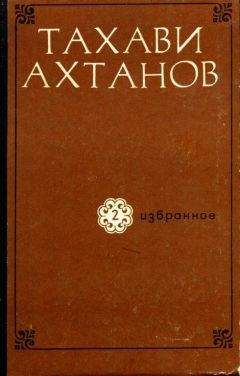тебе счастье, нам туда нельзя. Я что-то вас не понимаю, говорю ей, а Саша-то где? Мне очень нужно его видеть! И в это самое время на кухне вдруг скрипнул стул и громко, знаешь, так, как будто стояла глубокая ночь, когда все так отчетливо слышно. Саша сказал, что он сегодня не придет домой, их куда-то посылают в институте — это Раиса Семеновна мне торопливо, раздраженно, громко так, чтобы скрип этот заглушить. Но я уже тоже как бы не в себе. Там же кто-то есть, говорю, там же Саша. И как закричу: Саша! Раиса Семеновна растерялась, глазки у нее забегали, бросилась к двери, загородила ее. Нет там никакого Саши! Там подруга моя сидит. Чего я тебе буду врать? Нет Саши и не будет!.. Ну, видимо, у него не выдержали нервы, он что-то там опрокинул, шаги его послышались, и тут Раиса Семеновна сорвалась окончательно и пошла меня ругать, всякие гадости в лицо выкрикивать — и такая я и сякая, и Сашу-то я ее совратила, что стыда у меня нет, что хочу на себе сыночка ее женить, что таких наглых и подлых девиц она еще не видела, что не зря отца моего посадили — яблоко от яблоньки недалеко падает… Не дай бог кому-нибудь другому пережить такое! — глухо воскликнула Света, отвернулась от меня и поднесла ко рту стиснутый кулак.
— Свет, а отец твой, он что… ты о нем что-нибудь узнала?
Не отнимая кулака от раскрытого рта, Света отрицательно покачала головой.
— А мама твоя?
— Ее сняли с работы, запретили жить в Ленинграде, квартиру отобрали… а, что об этом говорить!
— А как же эта, Раиса Семеновна, она же нарочно все тогда подстроила, на Новый год?
— Конечно, — пожала плечами Света.
— Сводница какая, а? Собственного сына сводница, а? Какая!..
— Я понимаю теперь… Сначала она меня, может быть, и правда полюбила, а потом я просто стала ей не нужна: отца посадили… А мне теперь все равно, не хочу о ней думать, и зла на нее у меня даже нет.
— Почему?
— Пусто, — она положила вялую кисть на грудь, — вот здесь ничего нет.
— А Саша этот — он где?
— Не знаю.
— А Николай обо всем этом знает?
— А почему бы не знать? Знает.
Один за другим поднимались во мне запоздалые вопросы, хотелось кое-что спросить о Раисе Семеновне, и Саша мне был не до конца ясен. Или родители Светы— что же они? Почему в стороне оказались? Непонятно. И многое мне было непонятным.
Я жила с русскими всего каких-то три месяца, только много слышала о них раньше, но вот какие они — поди разберись теперь. Девушки у них, особенно городские, ведут себя своевольно, дружат с парнями. Не поплатилась ли тут Света? — спрашивала я себя. Да, поплатилась, отвечала я, а потом, подумав, войдя в историю ее поглубже, говорила: нет, ни в чем она не виновата, так принято у русских — разнообразные знакомства, кино, вечеринки.
У казахов по-другому. Теперь не выдают девушек замуж насильно, но дорога женщин у нас все еще узка. Даже если родители не слишком строги, то глаза аульной родни бдительно сторожат каждый твой шаг, каждый твой томный вздох слышат посторонние уши. Тут действительно в сторону не шагнешь, а если уж шагнешь, то сто раз осмотришься, прежде чем сделать это.
Я считалась одной из самых современных, образованных девушек района, закончила девять классов, а таких по пальцам можно было сосчитать во всей обширной нашей округе. И замуж я вышла за командира Красной Армии, который приехал издалека, был необычен для наших глухих мест, фигурой яркой, приковавшей потаенное внимание всех девушек, и я точно единственный приз среди наших невест взяла, самый заветный.
Света заговорила о любви — она поломала ей жизнь, опустошила и покалечила ее. Но не это почему-то видела я, она сильно любила — вот что давало в душе моей отзвук. А я любила? Влюбилась ли я по-настоящему в Касымбека? Неужто в нахлынувших заботах, счастливых треволнениях, связанных со свадьбой, отъездом в чужие края, я так и не успела как следует разобраться во всем этом? И жила, как жилось, идя по невидимой, но веками отглаженной дороге замужних казахских женщин.
С детства я слышала слово «любовь». Оно поразило меня чем-то, заставило как бы на бегу остановиться, примолкнуть, вслушаться в него, в то, как произносят слово это взрослые. Потом я услыхала его в сказках и дастанах. Но и жизнь и люди в тех дастанах казались совсем иными — волшебными, возвышенными, яркими. Пламенные чувства сказочных героев были не по плечу обыкновенным людям, жар любовный сжег бы, испепелил их. Нам, простым смертным, оставалось только одно: восхищаться. И туманная тоска глубоко залегла в душу, время от времени давая о себе знать странными, из другого мира сошедшими мечтами.
Когда же кончилось время сказок и дастанов, взялась я за книги казахских писателей, но и тогда слово «любовь» не сошло для меня с небес. И в них влюбленные сохнут и умирают, и сходят с ума — тоже непростые смертные, все сплошь «люди необычные». А я, казалось мне, не способна так полюбить, слишком мало мое сердце, бедна душа, обычна жизнь. Но думая так, я утешала, обманывала себя, а сама в сладких грезах уносилась далеко-далеко, и тогда необычайно красивый и статный джигит…
Не знаю, как у других народов, а у казахов будят чувства в девичьих сердцах не столько книги и сказания, сколько жены старших сородичей — женге. Они не морочат девушке голову, разглагольствуя о возвышенной какой-то там любви, а точно нащупывают самую тонкую струнку, пробуждающуюся в юном теле. «Чем ворочаться всю ночь в унылой постели, обнимая собственные колени… ох ты, господи боже мой, что может сравниться с жаркими объятиями молодого джигита», — говорят они, подогревая тем самым уже начавшие пробуждаться смутные желания. «Ну, уж ладно, хватит краснеть, можно подумать, ты сама ничего не знаешь. Не маленькая поди и без нас все это небось чувствуешь», — не отстают они. И шепотом жарким, со смешочком, с игрою лукавых глаз толкуют неустанно о прелестях замужней жизни, о чести быть хозяйкой собственного очага, настраивая тебя на будущую «предназначенную судьбой с самого твоего рождения» жизнь. У меня есть женге Дарига. Ее муж наш родственник в третьем колене. Но поскольку у моего отца нет более близких родственников, наши семьи очень