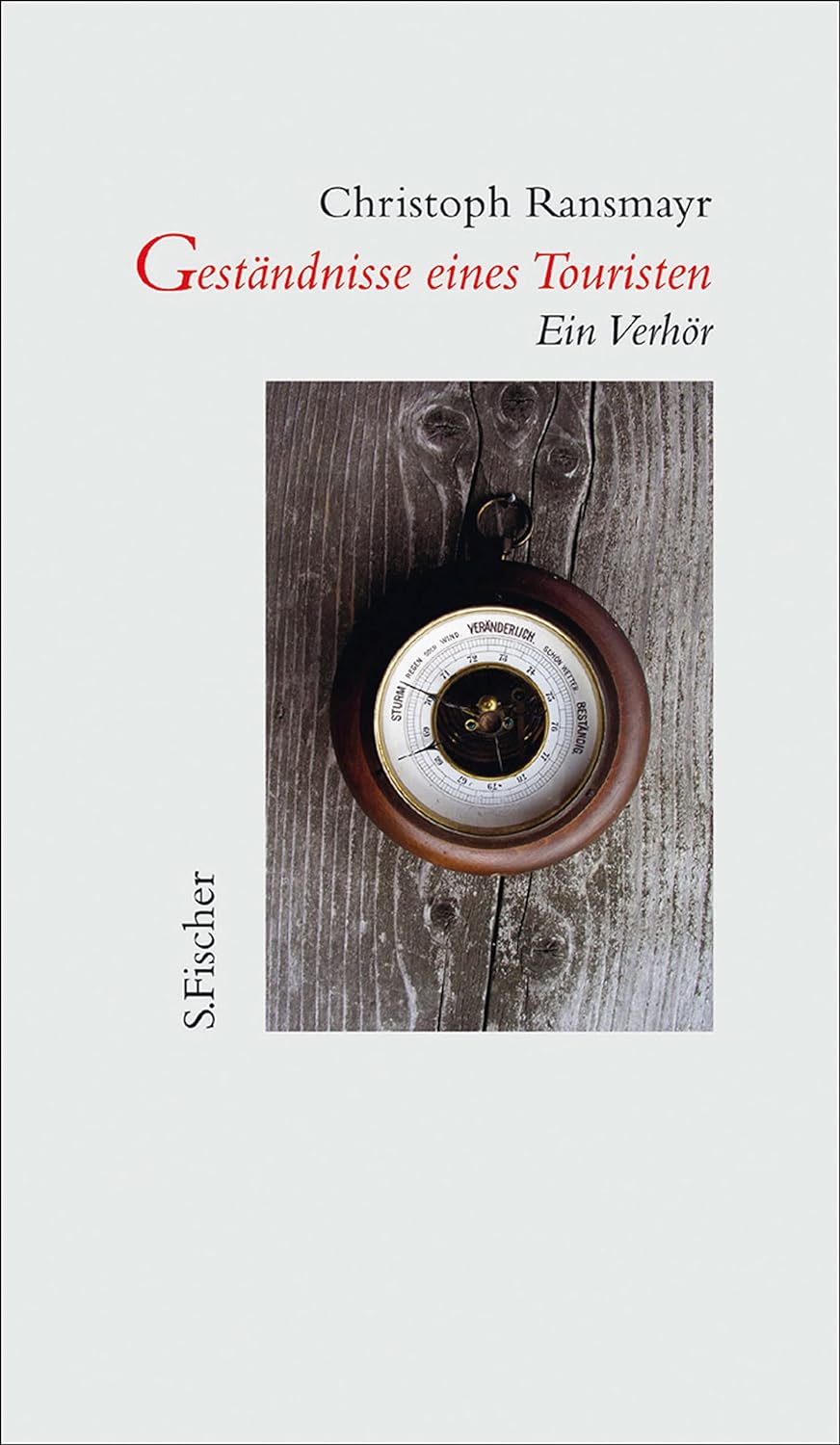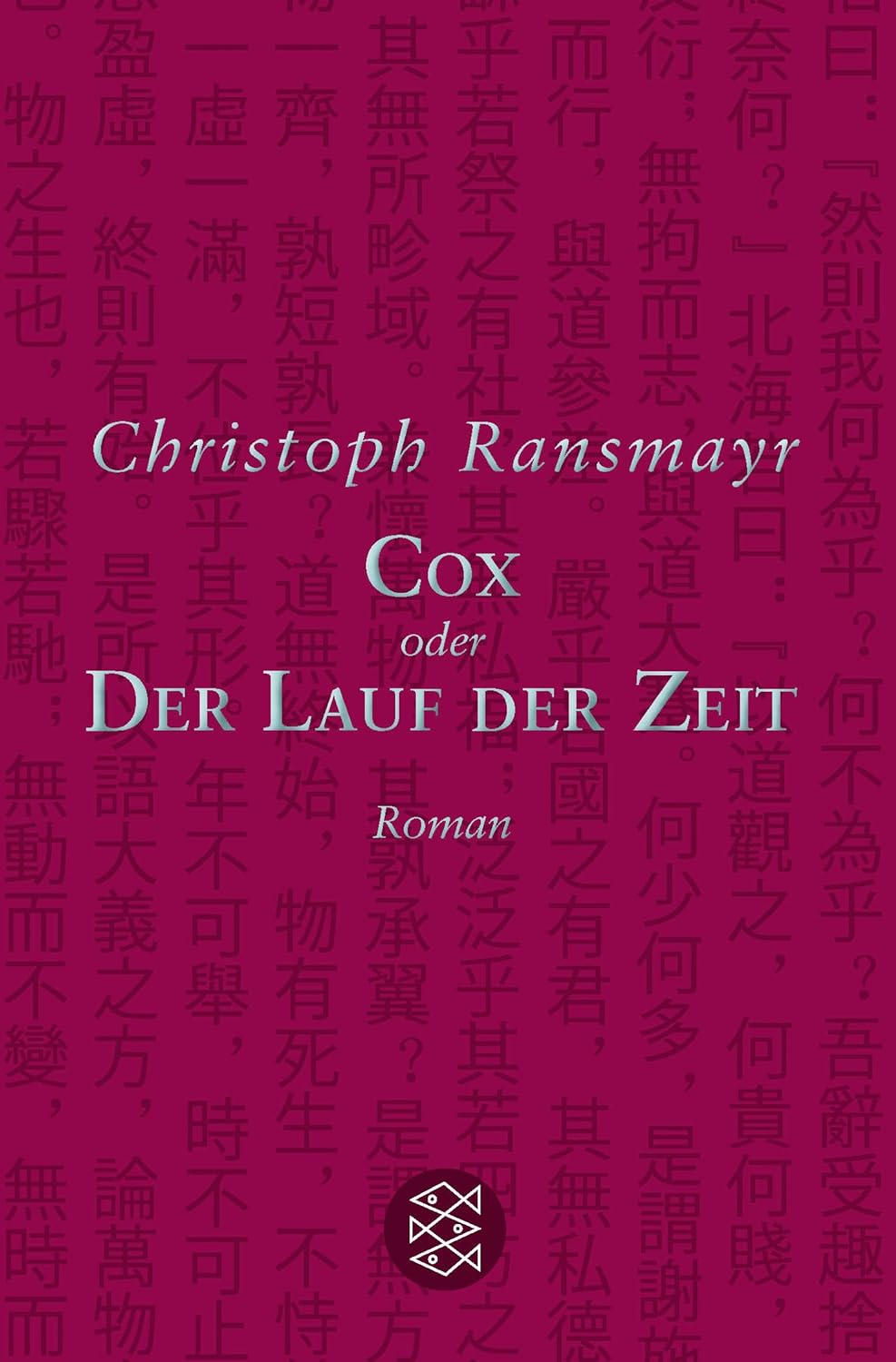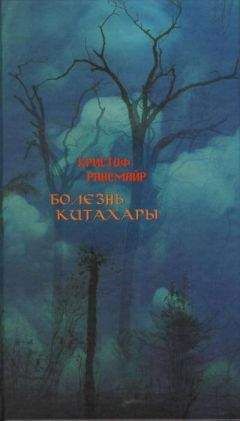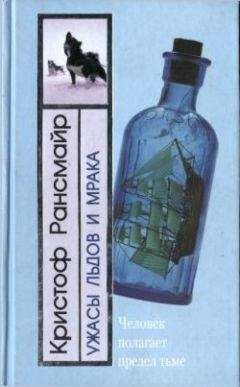class="p1">И еще: если уж говорить, если уж искать диалога со слушателями, читателями и критиками, то рассказчику не след только жаловаться, не мешает и поблагодарить, опять-таки публично: спасибо вам за внимание. Спасибо за терпение. Спасибо, что последовали за мной. Ведь такое тоже встречалось и встречается по сей день — поистине загадочная увлеченность и скромность, с какою критики или критичные читатели готовы порой выслушать рассказ, а затем еще и сесть за письменный стол, чтобы послужить этому рассказу, рекомендовать его, распространять по свету. В конце концов в критике тоже существует этакий горячий, заразительный энтузиазм, благоприятствующий передаче и пересказу, а тем самым расширяющий пространство повествования.
Примечательно, однако, что в той же мере, в какой неприятие иной раз вырождается в линчевательский призыв “тыкву долой!”, одобрение вырастает до дифирамба. И порой именно дифирамбы опять-таки провоцируют протест: чем больше похвала, тем громче звучат после торжества голоса протеста — весьма избитый антагонизм. Ясное дело, кому охота становиться пятидесятым или восемьдесят вторым в очередь поздравителей с букетами, коль скоро наверняка сорвешь аплодисменты и благодарность уже заскучавших участников праздника, если попросту ткнешь в физиономию виновнику или виновнице торжества таким вот громадным, уже привядшим букетом да еще и слегка повозишь им, будто веником. Чем разнузданней, тем веселей! Поставили на место, говорят тогда порой на балконах литературных наблюдателей; умыли, открыли глаза, умерили пыл, выразили сомнения... Да что я вам рассказываю, вы сами все это знаете.
Нет, я не исключение и, вероятно, так же легко обижаюсь и так же падок на соблазн, а от похвал способен вконец размякнуть, как и любой другой, однако смею утверждать, что, по крайней мере изредка и на пробу, не доверял дифирамбам точно так же, как и хулам, — защитная реакция.
Возможно, уже тогда, из самозащиты, я, автор репортажей, все равно не любил читать газеты. Порой не прикасался к ним неделями, даже месяцами, куда охотнее отдаваясь исключительно чтению книг. На Яве, в Восточном Тибете, в пустынях северной Индии или на каком-нибудь индонезийском острове, а тем паче в некоторых местах юго-западного побережья Ирландии сама попытка достать литературные страницы немецкоязычной газеты выглядит сущей авантюрой, а опliпе — ведь теперь интернет-кафе есть даже в дождевых лесах и среди глетчеров высокогорных долин, — опliпе я читаю только информацию и свежие новости, но не комментарии и не проповеди. Весьма затруднительно, скажем, в тамильской деревне на восточном побережье Шри-Ланки, или где-нибудь в Амазонии, или в Папуа — Новой Гвинее отрекомендоваться хозяевам дома или армейскому наряду на КПП знаменитым писателем, но не менее затруднительна и попытка в точности объяснить, к примеру, погонщику, который аккурат отдает команды рабочему слону на тиковой плантации, — объяснить, как скверно с тобой обошлись в “Гессенской пекарской газете” либо в “Венском журнале морских свинок” за минувший вторник или, чего доброго, в субботнем приложении. Ах, как скверно. В субботнем литературном приложении.
Ну хорошо, иногда в самом деле трудновато сбросить охранительный кокон рассказа, вновь выйти из истории наружу и оставить всех ее персонажей — без комментариев, без защиты — на произвол понимания или непонимания, персонажей, которые, может статься, сопровождали тебя годами и которых ты с помощью всех доступных тебе средств наделил даром речи. Ведь в конечном счете нередко оказываешься окружен, защищен или осажден персонажами собственной фантазии прямо как людьми из плоти и крови, каковые тоже большей частью витают в моей голове, в памяти, в мечтах или гневе — во всяком случае, отнюдь не в физической близости от меня.
Со многим — в том числе и с этим сонмом знакомых лиц — расстаешься, найдя выход, конец истории. И тогда вдобавок теряешь голос! Говорить начинают все остальные, а я, я теряю голос, потому' что именно я не в силах теперь ничего более сделать для своих персонажей, я и сам превращаюсь в победоносного и жалкого персонажа историй, которые начинают рассказывать о моих способностях или неспособностях на литературных страницах газет, на кафедрах и в семинарах. Я свою историю поведал. Что мне теперь еще говорить? Смешно даже представить себе, как, например, кто-нибудь из рассказчиков на Джемаа-эль-Фна, закончив свою повесть, бежит вдогонку за уходящими слушателями, чтобы проверить, правильно ли они все поняли, а затем преследует этих бедолаг по базарным лавчонкам, донимая их докладами, защитительными речами, похвалами и порицаниями, преследует их до самого дома, до родных горных деревень...
И все же не только для самочувствия рассказчика, но и для его способности продолжать рассказ очень многое зависит от того, как он умеет обходиться с одобрением или поношением, аплодисментами или возмущением, которые ждут его в конце рассказа. Жажда похвал, пожалуй, вредит этой способности не меньше, чем страх перед возможными протестами и, как ни странно, по-прежнему распространенными возгласами фу!, которые для меня — по крайней мере, в детских воспоминаниях — куда больше ассоциировались с пуканьем, чем с выражением некого суждения. В моем детстве этим словечком называли соответствующий звук: запрещенный стишок, который мы, хихикая, нашептывали друг другу, монах-капуцин, учитель Закона Божьего, даже включил в список мелких грехов, в каких надлежало исповедаться.
Соломон Премудрый рек:
Громко “фу!” кричать не грех.
А вот коли из штанишек
Тихий вылезет излишек,
От вонючей полосы
Все зажмут себе носы.
Я испытывал прямо-таки безумный восторг, когда во время легендарных радиотрансляций из Линцского земельного театра или с Зальцбургского фестиваля, которые мой отец слушал лежа на кухонном диване, мне разрешалось представлять, безнаказанно представлять, как празднично одетые люди — мужчины в вечерних костюмах или фраках, с пластроном и при бабочке, дамы в умопомрачительно декольтированных платьях — по окончании спектакля превращаются в отвратительных хулиганов: округляют свои благоухающие рты наподобие заднего прохода и завывают: фу! фу!
Как я поступаю с протестами, с возмущением? Ухожу куда подальше. Вам этого мало? Ну, не считая бегства внутрь новой истории или просто в ту самую голубую даль, куда никак не захватишь с собой местную значимость и важность, ведь там все это погоды не делает; я с годами нашел вполне приятный способ глотать любые гадости. Название этого незапатентованного метода, который никому не возбраняется взять на вооружение, — календарь-лилипут. Фукающий уже по чисто психогигиеническим причинам и согласно правилам моего детского воодушевления заносится в перечень под заголовком календарь-лилипут. А дело тут вот в чем.
Среди множества замечательных подарков,