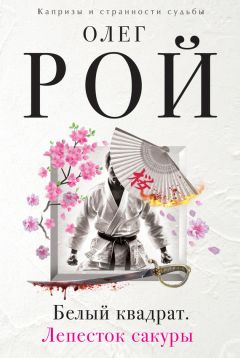станции не дотяну – зачем в вагоне, и так набитом до отказа, еще и покойник… не останавливать же состав из-за одного дохляка – да и от командования из-за незапланированной задержки достанется… лучше всего меня отдать на этой стоянке местным – те и закопают мертвяка. Командир махнул рукой, что-то зычно прокричал и ушел. А мой покровитель-спаситель, не успела удалиться спина начальника, быстро наклонился надо мной, обнял на прощание и что-то прошептал. Незнакомых слов было не разобрать, но по тону и жару, с каким они произносились, многое угадывалось. Степной человек, немного знавший русский, услышал или сочинил такое: прости, что бросаю, но ты в живых и правда не доедешь до места, да и на меня уже, наверное, настучали, что помогал врагу, – рано или поздно все равно расстреляют… так хоть ты останешься на свете… у меня ведь нет ни отца ни матери, ни брата ни сестры… даже девушки не было…
Мне долго не верилось, что русский действительно говорил такие слова… да и как забитый скотовод мог не только услышать, но и понять их. Но лишь недавно у меня прошла детская обида на лейтенанта: зачем бросил меня в этом ауле, среди чужих людей, не взял с собой или не оставил с моими соплеменниками – все было бы лучше.
Лишь недавно, а может быть, только сейчас стало понятно: тогда он мне спас жизнь. Другой вопрос: зачем? С тем чтобы на мне оказалось одеяние степной невесты, в котором с рассветом все равно придется уйти из жизни?! Это они, люди из аула, верят, что я, по их преданиям, священное создание, верят, что я стану невестой на небесах. Если не произойдет чуда, а его не будет, давно пришлось убедиться, что чудес не бывает, я просто умру немного иной. но все той же смертью, что ожидала меня в товарняке, или в неведом пункте назначения, куда меня должны были отправить. Впрочем, не стоит сейчас думать о смерти. Лучше думать о любви. До этого момента мне часто казалось, будто я лишь знаю на разных языках – немецком, степном русском – пустое слово любовь, а что это такое на самом деле, неведомо. Но теперь понимаю, что это не так. Меня любили мать и отец. Правда, теперь я их почти не вспоминаю. Они были в той, другой жизни, от которой нет и следа и к которой никогда не вернуться. Но мы встретимся, обязательно встретимся на небесах. Меня любили мои земляки. И с многими из них мы тоже встретимся там же. Как заботился обо мне лейтенантик. А апа и мои новые братья и сестры?! Разве их любовь и забота не подарок Бога!
Как все это началось?.. Ни разу не вспоминались события того дня, когда меня сняли с вагона…
От слабости я, наверное, снова без сознания. Долго не могу понять, на каком нахожусь свете – том или этом. Небо перевернуто. Под моей головой земля. Та самая обожженная земля, что виделась еще из вагона, а теперь распахнувшаяся до бесконечности. И странный, но уже знакомый запах конского пота, который проник в каждую частичку моего тела, каждую пору. А-а-а…это я лежу поперек лошади, руки и ноги свисают с нее – их нещадно палит солнце и они стали отчаянно багровыми. В лицо дует жаркий ветер. Он не приносит прохладу, а только катает под ногами лошади большие серые шары, как потом узналось, травы перекати-поле. Пробую считать эти шары: одни, два… пять. Но снова, еще и от покачивания лошади из стороны в сторону, впадаю в сон-забытье.
Пробуждаюсь от холода, который после испепеляющего зноя непереносим – будто из раскаленной печи поместили в ледник. Не согревает даже серая кошма, что прикрывает меня. Ее края впиваются в покрытые волдырями руки и ноги.
К конскому поту примешивается запах человека, тоже уже будто знакомый. Никак не удается так повернуть голову, чтобы увидеть моего вожатого. Но чувствую, что он рядом. Нас разделяет передняя часть седла. Вот он что-то крикнул лошади гортанным голосом и махнул кнутом – значит, он не мираж, не видение. А теперь вожатый затянул песню – протяжную, грустную, как все, что чаще всего поется, когда человек остается в своих раздумьях на один на один с самим собой. По голосу трудно понять, стар или молод певец, но в этих звуках столько тоски и неизбывного томления, желания чего-то, что уж точно то был не старик, которому уже все безразлично – в том числе и неисполненность мечтаний.
Тщетные попытки разглядеть вожатого увенчались неожиданной наградой: задираю висящую над землей голову что есть сил вверх и вижу небо, совсем другое, не то, что было у нас в селе, – незнакомое, грозное, но манящее к себе. Оно чернело высоко-высоко и все было утыкано тысячами звезд. Это темное небо обещало и что-то утешительное, будто убеждало: не бойся меня… лучше меня ничего на свете нет.
Утыканное звездами небо, плавный ход лошади, заунывная песня вожатого – все вместе убаюкали меня. Когда же снова глаза мои открылись, не было ни высокого неба, ни качания лошади, ни песни. Стало уже привычным: просыпаешься и не знаешь, где находишься. Вот и сейчас кто-то перенес меня в странный дом.
Несмотря на темноту, удалось кое-что увидеть: он круглый, с куполообразным потолком… стены какие-то странные. Меня как раз положили у стены, с опаской прикасаюсь к ней рукой, а она будто из войлока. Ощущение, что здесь все – стены, потолок, пол – из кошмы, будто из множества валенок. Рядом кто-то закашлял, встал, долго шарил в темноте, потом с шумом потянул за какую-то веревку – на потолке кошма свернулась в трубочку и образовалось окно, будто для телескопа. Но и телескоп был не нужен: те же знакомые звезды, что убаюкивали недавно, снова манили к себе. Пытаюсь их сосчитать. Здесь, на ограниченном окошком пространстве, это почти удается. Главное не двигаться, а то чуть пошевелишься, и в дырке потолка появляются другие звезды – и сбиваешься со счета.
Незаметно снова сморил сон. Растолкала меня чья-то рука. Скорее всего женская – мягкая и нежная, как у мамы. Она потрогала мой лоб (нет ли жара?), щеки. С трудом открываю глаза. Но только то не мама, определенно не мама участливо наклонилась надо мной и с состраданием качает головой. Кто же эта женщина с белым полотенцем, как после бани, на голове? Длинное-предлинное полотенце не только много раз накручено на голове, но