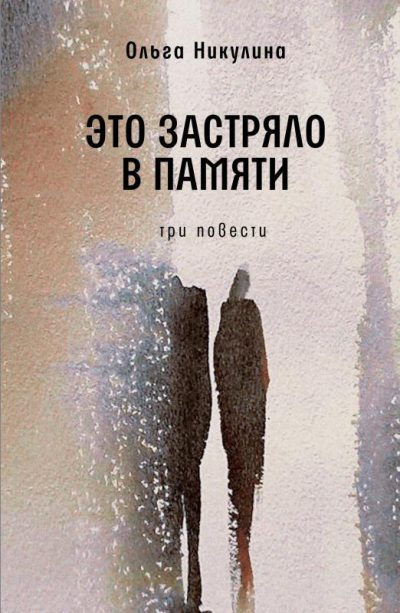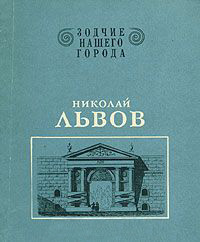поддевала под него старую бабушкину шерстяную кофту. Вечно она была сопливая, кашляла, у неё в начальных классах заводились вши, её снимали с уроков и пускали в школу, когда она приходила бритая под машинку. Это её не смущало, она никогда не плакала. Училась лучше всех в классе. О её родителях знали только учителя и Люба, как её лучшая подруга. В конце сороковых – начале пятидесятых, когда в разгаре была «борьба с космополитизмом», точнее, с евреями, некоторые ученицы стали коситься на Таньку, на переменах кто-то шипел ей в спину «жидовка». Она как будто не замечала или отмахивалась: «Дуры какие-то!» К ней относились хорошо – она давала списывать, подсказывала, выдумывала разные игры. «Родилась со смешинкой во рту!» – говорили о ней учителя. В ней было столько веселья, доброжелательности, искренности, что все оскорбления от неё отскакивали. Её откровенно не любила только классная руководительница. Танькину природную живость считала нужным подавлять, и если Танька болтала с кем-то на уроке, ядовитым шёпотом, но так, чтобы слышали все, предупреждала: «Лесиевич, если не прекратишь болтать на уроке, я всем скажу, кто твои родители…» И Танька сникала и до конца занятий замыкалась в себе. Класс тоже затихал. Ученики недружелюбно поглядывали на Таньку. Чуяли, что тут скрывается какая-то страшная тайна. «Шпионы? Предатели Родины? Воры-убийцы?» – шептались глупые. Умные девочки как ни в чём не бывало окружали Таньку – наверное, догадывались. Возможно, в их семьях правильно понимали, что происходит в стране, или они сами имели репрессированных родственников и друзей. Своих близких. Елизавета Ивановна жалела Таньку, ей перепадали тёплые одёжки Любы, из которых та вырастала – Танька была щуплая, маленькая, а Люба росла быстро. После школы, если бабушка Таньки не болела и её можно было оставить одну, подруги приходили домой к Любке, обедали и садились делать уроки. Домработница Дуся поначалу приносила одну тарелку с супом и котлету с картошкой Любе. Но Любка брала вторую тарелку и делила порцию пополам. Дуся поняла и стала приносить девочкам одинаковые порции. И давала ещё по стакану компота. Как-то в выходной за столом у Любы дома собралась вся семья – мама, папа и Люба. Дуся была в кино. Таньки не было, она по воскресеньям убирала комнату и, пока вся квартира спала, мыла общественные места, как полагалось в коммуналках; потом бегала за продуктами, её пускали без очереди как ребёнка – до того она была мала росточком и тщедушна. Танька была практична и экономила каждую бабушкину копейку. В тот день отец не был в командировке, а Елизавете Ивановне на спектакль надо было являться только к шести вечера. Вдруг отец, помявшись, спросил:
– А что, эта девочка Лесиевич всегда будет к нам ходить?
– А в чём дело? – с удивлением отозвалась Елизавета Ивановна.
– Ты сама говорила, что её родители репресс… Ну, понимаешь. И неизвестно, по какой статье…
– Известно, всех невиновных людей по ней сажают! Как уже было…
Отец побагровел и процедил сквозь зубы:
– Эта дружба может бросить тень… Нежелательны её визиты… Еврейская фамилия…
– Что-о-о?! – вскипела Елизавета Ивановна. – Это не по-христиански! Или забыл, под какой фамилией ты был записан при рождении в вашей синагоге или как его там, в вашем хейдере!
– Ты отказала от дома моему старому приятелю…
– Не потому, что он еврей, а потому, что у меня возникло сильное подозрение, что он сту…
– Лиза, apres, apres – enfant!! – отец скосил глаза в сторону Любы.
– Любаша, пойди на кухню и поставь, пожалуйста, чайник, если тебе не трудно, – обратилась к дочери Елизавета Ивановна. Когда Люба вышла, отец страшным шёпотом сообщил:
– Мне звонила их классная наставница и в весьма категоричной форме просила расторгнуть эту дружбу… по известной причине.
– Стерва! Ты, конечно, промямлил, что примешь меры?
– Я же партийный человек! Так оставлять…
– У страха глаза велики! Бог милостив, всё обойдётся… Кому может повредить дружба двух девчушек?! Тебе? Мне? Чушь! Се ту! – что означало, что разговор окончен. Елизавета Ивановна любила щегольнуть крохами своих знаний французского, но все французские слова звучали у неё как-то по-русски.
Они думали, что Любка не слышит. А она задержалась за дверью – не могла пропустить, что решат родители и чем кончится спор. Всё осталось по-прежнему. Обычно решающий голос был у Елизаветы Ивановны. Родители и не предполагали, что Любка всё знает про Танькиных родителей и не только. Это была их с подругой жгучая тайна. И она вовсе не спала, когда родители по ночам сидели, прижавшись ухом к входной двери, слушали и гадали, на каком этаже остановится лифт и какого рода будут шаги – тяжёлая поступь людей в сапогах или кто-то, подгулявший в ночи, тихо поскребётся в дверь своей квартиры и ему откроют. Из дома уже исчезло несколько человек.
Окончив восемь классов, Татьяна пошла учиться в полиграфический техникум, потом работала в типографии газеты «Правда» и, набравшись опыта и заработав трудовой стаж, поступила в Полиграфический институт соответственно своей профессии. Работала и продолжала учиться. Была наборщицей, корректором, затем с третьего раза поступила в университет на журналистику и наконец осела в редакции газеты «Правда» в отделе писем. Готовилась к карьере корреспондента. К тому времени она уже вступила в партию. Она выезжала по заданию начальства в разные регионы страны для выяснения обстоятельств самых скандальных дел и слёзных жалоб по поводу злоупотреблений местных властей, взяточничества и воровства местных чиновников, казнокрадства, жестоких преступлений. Защищала обездоленных ветеранов войны, вскрывала вопиющие безобразия в детских домах и домах престарелых. Бабушку она давно похоронила и жила в новой однокомнатной квартире, которую ей выделила за примерную службу газета «Правда». С замужеством не получалось, ограничивалась случайными связями с единомышленниками. Она посещала поэтические вечера, концерты бардов, «просачивалась» на премьеры в Театр на Таганке, посещала выставки, собирала у себя шумные компании друзей; они пели под гитары свои песни, читали стихи, спорили – порой споры касались опасных тем – плясали рок-н-ролл, много пили. Соседи, такие же журналисты, вливались в её компанию. Когда Татьяна уезжала, веселье в доме стихало. Но уже к концу недели спрашивали друг у друга: не знаешь, когда наша рыжая вернётся? (Татьяна стала краситься в ярко-рыжий цвет, стараясь скрыть рано проступившую седину.) Она ничего не боялась, ведь все свои, считала она. У неё на вечеринках бывали иногда иностранцы из соцлагеря. Только вот почему-то всё никак не переводили её в корреспонденты, куда она метила. Татьяна поставляла Любе свежие новинки самиздата, через друзей получала и делилась с Любой отпечатанными на папиросной бумаге