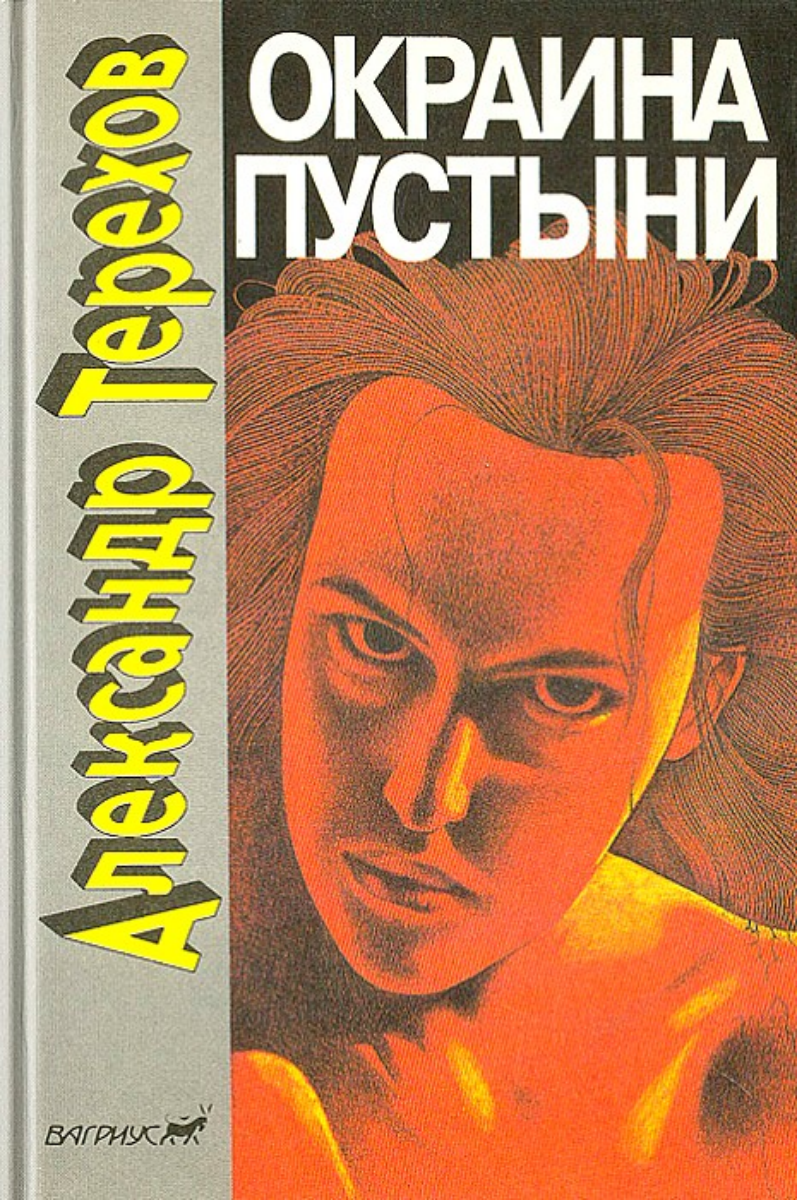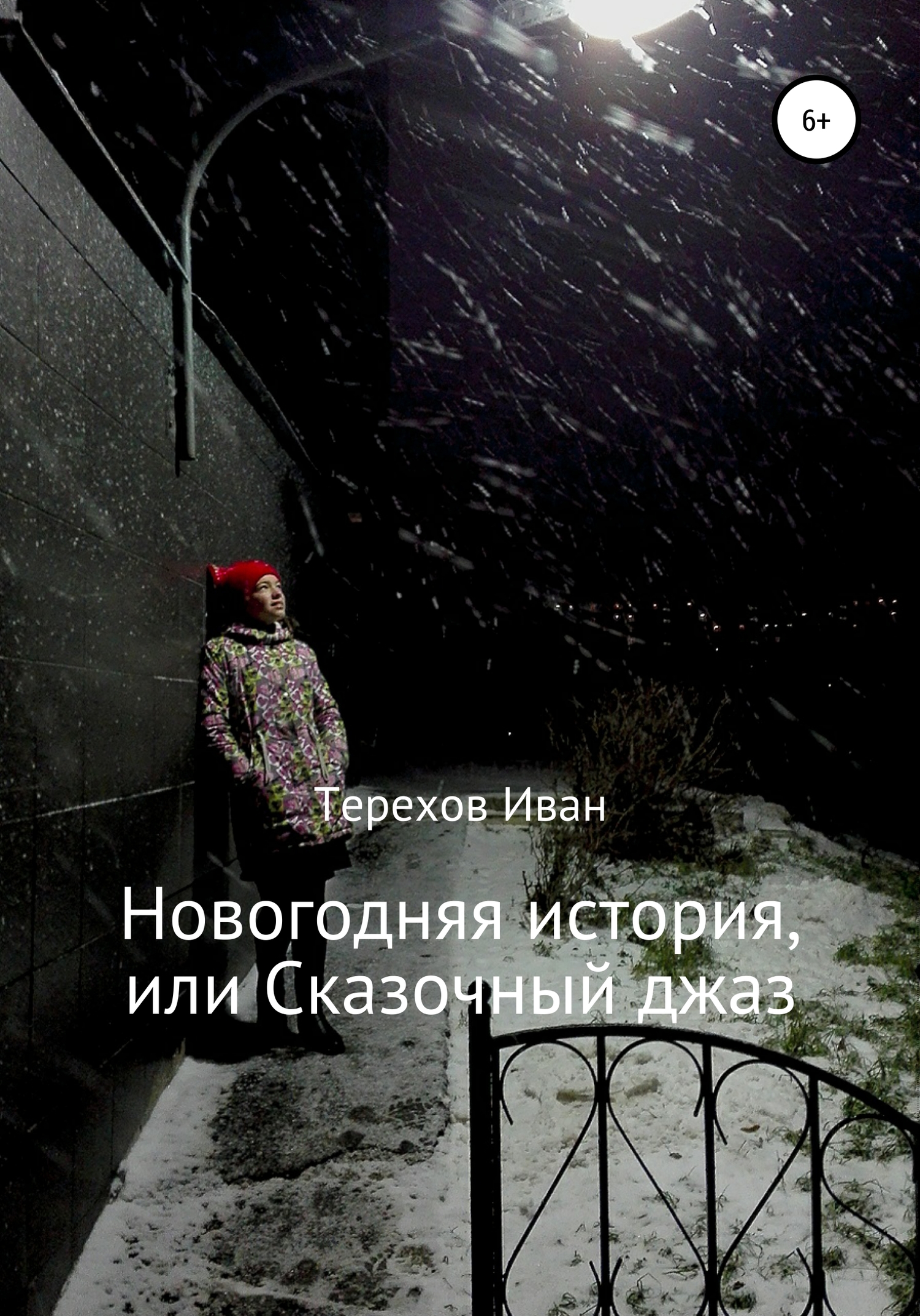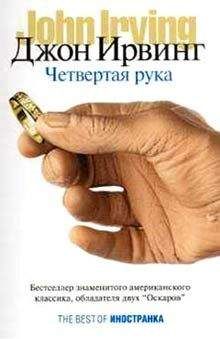него особый будет па голове — спираль металлическая, как родится, так и будет в голове воткнута. Ледник потает, хлопка станет завались, а в России откроется в народе страшный радикулит от сырости, ходить будет и кричать от шага каждого. Через десять лет на Чукотку сядет тарелка. И всех чукчей заберут. Покормят и выпустят. С мехами станет получше. А потом, еще через пять годов, — с юга покатит орда узкоглазых, резать и жечь, языки человечьи только жрать будут, особенно пожилых и партийных. И будет их сто раз по сто миллионов тысяч, саранчой полезут, земли не увидишь, мочой всю Аравию затопят. Пики у них острые и ножницы, все верхом на быках. И одни бабы. Только без грудей. И органы все мужицкие. И религия у них новая: все жрать, всем спать. И повалят они с жаркого юга, рекой, морем, океаном бескрайним, докатят до наших границ, изготовятся к атаке— да вдруг и сгинут без следа, ищи и плачь...
— Так… Во намолол, так, а с Президентом-то что нынешним? Застрелится? Про конец света ничего не говорил? — пролепетала обескровленными губами администратор.
— Вот и доживать так, — перекрестилась суровая старушка. — Все на нас, ничего не минет.
— А из Президента кровь пойдет, Будет писать — из него кровь хлыщет, Примется говорить — тоже хлыщет. Думать начнет — снова льет. Только если спит— почти нет. И устроят ему спаленку, и все условия. Чтобы все время спал. Раз тока в год будут подкрадаться, чтобы указ подписать, скажут: «кушать», он рукой шевельнет — кровка брызнет, подписал значит, давайте. И про конец света сказал, так сказал: к глубокому сожалению, будет не с того конца, а пока экономьте стройматериалы и живите.
Женщины обмерли,
Опять нетерпеливо и требовательно стукнули в дверь.
Администратор еле повела тяжелой головой в сторону двери и продолжила царапать стекло на столе разогнутой скрепкой, хмыкнув:
— Ну и наплел он тебе. Алкоголик.
Николай плеснул из чашки в иссохшее до песчаной жесткости горло и с жуткой силой навалился на лосося из банки, озабоченно и размеренно сопя.
— А я считаю: это — все правда, —бодро ляпнула старушка. — Точно так будет, глянете. Ну и ничего, как-нибудь. И не такое бывало.
Тишину снова раскололи озлобленно резкие удары в дверь.
Администратор мутным, как спросонья, взглядом вемотрелась в каждого, убедилась, что бутылка канула за дальний стеллаж, и отозвалась вяло:
— Кто там? Слушаю!
— Грачев, — ответили подземельно.
— Это мальчик с этажа, — поняла администратор. истомленно потянувшись на стуле. — Открой там, Матвевна, тут и так уже пе продохнуть.
Грачев прилип к стене, угадывая в салатовой двери смутную свою тень. нулак ныл — он больше не стучал, он раскусывал зубами тугую, вязкую зевоту и наблюдал спины, вылезающие из комнат и бредущие сонно в столовую.
Сыто, послеобеденно цыкнул замок, тронулось враскачку его сердце — вот, сейчас, мы начнем; крохотная, как иссохшая между зимними рамами муха, старушка позвала:
— Ну зайди.
Там пили чай, сплотившись тесней локтями, разморившись от спертости, роняя о чем-то неразборчивые слова, единственный мужик, основательно и надолго лысый, старательно жрал, не отдыхая; то хлеб, то консервы, то хлеб.
— А, это Грачев, — протянула администратор и томительно пощелкала язычком, — Давно-о не был. Ну, шторы там еще не пропили?
Брови ее упруго переламывались в усмешке, как тугие пружинки.
— Вера Александровна, — серо произнес Грачев. — Мне надо крыс отравить.
Его душило желтое облако, растущее от штор и тяжкое заоконным присутствием ледяного снежного ветра. Он нетерпеливо вскинул голову: ну как?
Старушка рассыпчато хихикнула, шлепая лысого по спине:
— Что, Никола, подъел? А и за работу пора. И для тебя работка нашлась. По твоей профили. Это тебе не у Верки под боком греться. Давай. Не бойся.
Лысый, не разогнувшись, обтер сморщенным платком бледный тонкогубый рот и коряво полез на выход, ощупывая пузатые карманы синего пиджачка.
— Куда? —только и обернулся он у порога, задержав на Грачеле слезливо-голубые глаза.
— Четыреста двадцать вторая. — подсказала выбравшаяся следом администратор, оправляя юбку и оглаживаясь, и довольно окликну-ла. —А ты, Грачев, ну-ка пойди сюда… Стой, лучше я к тебе…
Сильно ставя каблук и раскачав на шагу тяжелую выпуклую юбку, она настигла Грачева и, вкрадчиво и переменчиво улыбаясь, расправила ему ворот рубашки сладко пахнущей материнской рукой:
— Вот и мужика у меня распоследнего уводишь, да?
Грачев видел то шею, то грудь и редко, искоса, как из-за дерева, подсматривал в лицо, заглядывал в колыхающееся перед ним.
— Чудо какое, и крыски у вас завелись, достали… Неудивительно, по такой грязи. А у тебя самого, — она ступнула ближе, тесней, — ничего там не завелося, нет? Не ползает? Что ж ты, хоть бы пришел разок.
Ее зубы выпускали душный воздух — прямо в шею Грачева, ошейннком, и трудно глотать,
— И Шелковникова твоего не дождешься. Все вы меня забыли. Да? А мне докладывают, от тебя рано Машка с Виткой шла. Ты, смотрю, уже с двумя? Уже сам не знаешь, что придумать? Не хватает тебе чего-то, не хватает, хороший ты мальчишечка, но что-то тебе не хватает, ищешь, — уже пошептывала она, и глаза ее дрогнули и поплыли в жирной тягучей влаге, и губы перекатывались медузами на волне. — И как ты, справлялся? Ты по очереди или успевал сразу, пустил бы меня посмотреть. Дурачок ты дурачок, это тебе потому не хватает, что девчонки они, малолетки, чего они знают? Что могла та же Машка от одного негра набраться? Ну-ну, ты стой, не падай… А? Ты не знал про негра, что ли? Нет? А как ты думал? Всем жить-то хочется. Надо, край надо мне тебя просвещать, продолжить, надо мне за тебя посерьезней взяться, жалко мальчишечку, мучаешься, а то так и проспишь-то свои денечки…
— Надо бы, — раздельно подтвердил Грачев. — Хорошо.
— Зайди. Хоть просто поговорить. За жизнь. Как раньше. Ты ж любил мне раньше глаза открывать, наставлять, учить, хоть так зайди, — уходила она, бросая через плечо, каблуки ее били линолеум. — Николая, если пить будут предлагать, — не смей! Там все алкоголики и развратники. Четвертый курс же. А четыре года в общаге — как десять лет в публичном доме!
Она захохотала, а потом грохнули в комнате, сыто и дружно, и Грачев пошел, а лысый ждал его статуей у двери. Грачев