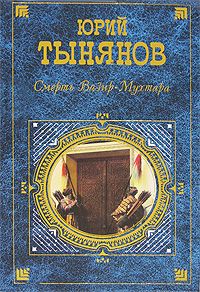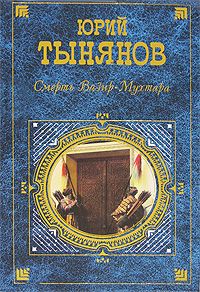С середины двора вела наклонная, узенькая и частая, как гребенка, лесенка прямо во второй этаж.
Во втором этаже сидело существо таинственное, Вазир-Мухтар. Он сидел там, писал, читал, никто не знал, что он там делает. Добраться до него было трудно, как до человека закутанного, нужно было распутать три входа и размотать три двора.
Он сидел там, во втором этаже, писал, читал, никто не знал, что он там делает.
Он мог, например, там сидеть и писать бумаги всем иностранным державам. Или день и ночь думать о величии своего государя и русской державы. Манучехр-хан, который приготовлял для него покои, думал, что Вазир-Мухтар будет смотреться в зеркала. Он много наставил там зеркал с намалеванными по стеклу яркими цветами, и, сидя за столом, можно было видеть себя в десяти видах одновременно.
И правда, Вазир-Мухтар видел себя в зеркалах. Но он старался не смотреть долго. Удесятеренный, расцвеченный Вазир-Мухтар не приносил особого удовольствия Александру Грибоедову.
И правда, что он сидел за бумагами с видом величайшего внимания. Он писал:
Из Заволжья, из родного края,
Гости, соколы залетны,
Покручали сумки переметны,
Долги гривы заплетая.
Он следил ухом за небогатыми, потерявшими вид звуками, которые доносились через три двора, и ловил старорусскую песню об удалых молодцах.
Вот они -
На отъезд перекрестились,
Выезжали на широкий путь.
На широком пути много разбойничков, сторожат пути солдаты и чиновнички — надобно в сторону спасаться. И спасся.
Терем злат, а в нем душа-девица,
Красота, княжая дочь.
И медленно потягивал он холодный шербет, что принес Сашка, и уже кругом была прохлада, которой искал всю жизнь:
Ах, не там ли воздух чудотворный,
Тот Восток и те сады,
Где не тихнет ветерок проворный,
Бьют ключи живой воды.
Тут бы радость, тут бы нужно веселье, а фортепьяна нету. Стоит белая, слоновой кости, чернильница, калямдан, выделанный как надгробный камень. И похож на могилку Монтрезора.
Грешный позабыл святую Русь…
Тут ему и славу поют.
Буйно пожил век, а ныне —
Мир ему! Один лежит в пустыне…
Эту песню петь будут. Будут петь ее слепцы и гусельники по той широкой дороге, и будут плакать над нею бабы:
У одра больного пожилая
Не корпела мать родная,
Не рыдала молода жена…
Он отложил тихонько листок, с недоумением. — Молода жена.
Что-то похожее пел десять лет назад у его окна пьяный Самсон, и он к нему тогда не вышел.
Он теперь добьется его выдачи. А умирать он и не собирался, последний страх оказался чиновничьей поездкой по приказанию.
Он увидел свое лицо сразу в четырех зеркалах. Лицо смотрело на него пристально, как бы забыв о чем-то, лицо, странно сказать, — растерянное.
Он кликнул Сашку, но Сашка куда-то запропастился.
Аудиенция у шаха.
Ферраши облаком со всех сторон. Сарбазы во дворе берут на караул по-русски.
На каждый шаг Вазир-Мухтара смотрит двор, и каждый его жест кладется на весы. Англия взвешивается глубиною поклона Вазир-Мухтара, продолжительностью аудиенции, количеством и качеством халатов, качеством золотых сосудов, в которых подается халвиат.
У лестницы стоят карлики шаха в пестрых одеждах.
И Грибоедов вспомнил слоновьи шаги Ермолова.
В 1817 году Ермолов тонко и терпеливо, со вкусом, отвоевал все мелочи этикета и под конец ступил в солдатских сапогах к самому трону его величества и уселся перед ним на стул.
Потому что малое расстояние от трона есть власть державы, а сиденье перед ним — главенство.
С 1817 года русские, с тяжелой руки Ермолова, избавлены были от мелочей этикета.
Мелочи исполняли с великим удовольствием англичане. Они снимали сапоги, надевали красные чулки и стояли красноногими птицами перед шахом.
Но этикет прервался через десять лет после грузной аудиенции Ермолова, когда тысячами кланялись персияне и русские земными поклонами друг другу и так оставались лежать.
Теперь он возобновлялся, и теперь снова нужно будет отвоевывать стул и сапоги, потому что стул и сапоги весят много куруров.
Кальянчи в древней персидской одежде, с высокой шапкой на голове, держал золотой кальян на жемчужном коврике.
Евнухи взглянули на золотую грудь Грибоедова. Треуголка, как портфель, была прижата к боку.
Манучехр-хан заглянул ветошными глазками в глаза Грибоедову и нерешительно указал на маленькую комнату.
Комната эта была кешик-ханэ — палатка телохранителей. Там стягивали сапоги с послов и облачали их в красные носки. Там, исполняя древний обычай, прикасался персиянин к иностранному мундиру, что означало обыск.
Манучехр-хан только заглянул много видевшими старушечьими глазами в глаза Грибоедова. Но тотчас его рука в голубом рукаве приняла свое обычное положение.
Вазир-Мухтар смотрел спокойно, с неопределенною сосредоточенностью, как бы мимо глаз евнуха или сквозь него. Манучехр-хан понял: носки отменяются. Он раздвинул занавес — пердэ — бережно, как священные покровы.
Когда, окруженный краснобородой толпой, вошел Грибоедов в залу, где стоял шах, — снова посмотрел Манучехр-хан в глаза Грибоедову. Глаза были узкие, сухие, прищуренные. И, вздохнув, евнух дал знак, и Грибоедов почувствовал за спиною кресла. Мальцов и Аделунг стали за ним.
Преклонившись глубоко, но быстро, он опустился в них, как в 1817 году опустился в них впервые перед шахом — Ермолов.
Шах-ин-шах — царь царей, падишах — могущий государь, Зилли-Аллах — тень Аллаха, Кибле-и-алем — сосредоточие вселенной — стоял в древней одежде на троне.
Твердая, стоячая, она была из красного сукна, но красного сукна не было на ней видно: жемчужная сыпь сплошь покрывала ее, и нарывы бриллиантов сидели на ней. По плечам торчали алмазные звезды, как два крыла, которые делали плечи царя широкими, а на груди жемчужное солнце, два дракона с глазами из изумрудов и два льва с глазами из рубинов. Четки — тасбих — из жемчугов и алмазов висели у него на груди, борода была расчесана, напоминала драгоценную дамскую ротонду больших размеров. Шах был как возлюбленная тишина, Елисавет Петровна, только что с бородой. Ротонда стояла, и могущий государь стоял, но пошевелиться не мог: одежда весила полтора пуда.
Позолоченный Наполеон стоял под стеклянным колпаком но правую руку шаха и мрачно смотрел на происходящее.
Парадные министры в многоэтажных джуббе, красных и коричневых, одетых одна на другую, похожих на фризовые шинели, были в белых шалях, намотанных на черные каджари.
Стоял в первом ряду принц Зилли-султан, нарядный, толстый, с алмазным пером на шапке. Во втором ряду — стянутый в рюмочку, гибкий и беспомощный, со смуглым гладким лицом молодого развратника, черноусый Хозрев-Мирза, младший принц, сын Аббаса, внук шахов, поставленный во второй ряд за происхождение: он происходил от христианки, стало быть, был нечистой крови.
Толстяк, вроде Фаддея, но только бронзового цвета, стоял рядом с ним. Толстяк громко сопел и, выкатив глаза, слегка приоткрыв рот, без всякого выражения глазел на происходящее.
Это был придворный поэт Фазиль-хан.
В обязанность его входило чтение стихов шаху, министрам и знатным иностранцам, а также и плохое качество стихов, потому что Баба-хан, подобно Нерону, и Людовику Баварскому, и хану монгольскому Юн-Дун-Дорджи, сам был поэт и не любил соперников.
Пристально смотрел на Вазир-Мухтара Ходжа-Мирза-Якуб. А Вазир-Мухтар сидел в креслах необыкновенно свободно и смотрел на шаха и на золотого Наполеона.
Он внятно отвечал на все вопросы, но сила была не в том. Вазир-Мухтар словно задумался.
Он сидел Олеарием перед царем московским, и торопиться некуда, потом что все это случилось уже за триста лет назад.
Золоченый Наполеон, сложив руки на груди, смотрел, наклонив несколько набок простую голову, как стоял живой древний царь перед троном, и сидел, прижав треуголку к боку, Олеарий.
Шах сизел.
Со лба его упали две крупные капли. Прошло четверть часа.
Мальцову казалось, что все видят, как он дрожит.
О чем он думает, Александр Сергеевич, в своих креслах, на что он смотрит, чего он сидит? Боже, какая тоска, шах задохнется.
В самом деле, о чем думает Вазир-Мухтар? Может быть, о курурах?
Может быть, о своей жене, о ее руках, о том, что она сказала при расставании?
Может быть, он сравнивает наружность деспота азиатского, в крыльях, которые никуда не летят, в одежде полуторапудовой, с наружностью другого, тонкого и круглого, как кукла, в синем мундире, небесного жандармского цвета?
Или, может быть, просто в голове у него неуместно проносятся срамные стихи великого русского поэта:
— Борода предорогая!
Жаль, что ты не крещена…
Грибоедов сидел.
Доктор Аделунг, стоявший сзади и похожий в своем мундире на круглый и низкий кальян, присматривался к евнухам.