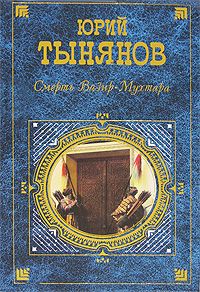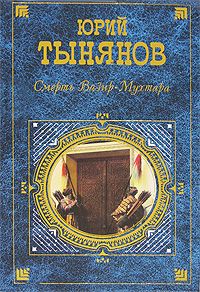Грибоедов сидел.
Доктор Аделунг, стоявший сзади и похожий в своем мундире на круглый и низкий кальян, присматривался к евнухам.
Евнухи интересовали его как явление натуральное, физическое; один из них смотрел неприятно и в упор.
Шах закрыл глаза, как умирающий петух.
— Борода в казне доходы
Умножает по вся годы…
Тут Грибоедов заложил ногу на ногу.
Так сидел он, внезапно отрешенный от всего, созерцая жемчужный поднос и не думая ни о чем.
Министры сгорбились. Алаяр-хан прикусил губу.
Он сделал это нарочно: чтобы громко не сорвалось слово, страшное слово, которое может произнести один шах:
— Муррахас — я отпускаю.
Алаяр-хан хотел бы этого слова. Тогда бы началось… Руки у шаха повисли. Он раскрыл рот и тяжело дышал. Наполеон под стеклянным колпаком как будто повел головой.
У Мальцова пустели ноги, и ему хотелось сесть на пол. Никто ничего не говорил.
— О, коль в свете ты блаженна,
Борода, глазам замена!
Шах пошевелил губами. Вот пройдет еще одна минута, и…
Грибоедов встал и поклонился глубоко и быстро.
Все зашевелились. К шаху подходили уже, брали его под руки, выводили. Его величеству было дурно.
В соседней комнате угощали Грибоедова и его секретарей халвиатом, ледяным розовым шербетом, чаем и кофе.
Угощали их Манучехр-хан и Ходжа-Мирза-Якуб.
Фазиль-хан мелкими шажками подошел к Грибоедову и сказал ему по-французски:
— Ваше превосходительство не посетует на поэта, приветствующего знаменитого сына великой страны.
Грибоедов посмотрел с удовольствием на персиянского литератора.
— Вы не историограф? — спросил он вежливо.
— О да, отчасти. Это входит в мои обязанности.
Карамзин, однако, был много тоньше.
— Прошу вас. Я слушаю.
Фазиль-хан выпятил несколько живот.
Голос у него был тонкий, теноровый, и он декламировал похоже на Шаховского — подвывая.
Против ожидания стихи были порядочные — о благоухании цветов некоторой могущественной державы, донесенном до Ирана в сердце лилии, принявшей вид человека прекрасного.
— Прекрасно. Я тронут. Ваши стихи можно сравнить со стихами нашего знаменитого поэта, сиятельного графа Хвостова.
И Фазиль-хан покраснел от удовольствия. Старик, которого не замечал ранее Грибоедов, был в бедной одежде дервиша. Как попал дервиш на церемонию? Поднятые вверх брови, бесцветная борода, старый халат и сгорбленная древняя спина юродивого. Здесь не пахнет графом Хвостовым. Это Никита Пустосвят пришел в Грановитую палату.
Никита еле пошевелил губами и сказал Фазиль-хану нечто. Фазиль-хан просиял и перевел Грибоедову:
— Величайший государь России был его величество могущественный Петр, прозванный повсеместно Великим.
Комплимент дервиша.
— Я счастлив услышать в дружественной стране имя великого государя.
Дервиш еще пожевал губами. Фазиль-хан вылупил глаза и пролепетал:
— …который, однако, не имел удачи в делах с Блистательной Портой…
Грибоедов прищурился:
— Эту удачу он уделил своему праправнуку.
И дервиш более ничего не говорил и не прикоснулся к кофе. Вазир-Мухтар просидел перед его величеством шахом час без малого.
Значение России возросло так, что, протягивая Вазир-Мухтару золотой стакан, Манучехр-хан не смел глядеть ему в глаза. По близорукости Вазир-Мухтар не разглядел дервиша. Это был Абдул-Вехаб, муэтемидуд-Доулэ, враг Алаяр-хана, человек старой Персии. Так небольшая неудача идет рядом с удачей.
Двое сарбазов привели под руки Сашку и сдали его с рук на руки казакам.
Казаки подняли Сашку и пронесли через все три двора. Они внесли его в первый этаж, где Сашка занимал довольно хорошую комнату.
— Эк его, — говорил с сожалением один казак. — Выше, выше держи, руки зацепают.
Грибоедов все видел в стеклянную дверь, сверху. Он сбежал вниз к Сашке.
— Доктора, — сказал он быстро и серьезно.
Аделунг пришел и тотчас же послал за бинтами и корпией.
Сашка лежал окровавленный, как бы весь выкрашенный в свежую красную краску. Только руки, бледные, с крепкими ногтями-лопатками, крючились на бедном коричневом одеяле.
Грибоедов низко над ним склонился.
Правый глаз у Сашки был скрыт за радужным и выпуклым синяком, фонарем, рот был его раскрыт, и тонкая струйка слюны задержалась в уголку, а левый глаз серьезно и внимательно глядел на Грибоедова.
У Грибоедова задрожала губа. Он отвел смякший колтуном кок с Сашкиного лба.
— Саша, ты меня слышишь? — сказал он. — Саша, голубчик.
Сашка мигнул ему глазом и промычал.
— Ммм.
— Кто это избил его так безобразно? — спросил Грибоедов беспомощно и с отвращением. — Мерзавцы.
— Известно кто, ваше превосходительство, — на базаре, — ответил столь же тихо и как-то важно казак.
Доктор Аделунг возился уже над Сашкой. Он смыл теплой водой кровь, присмотрелся к голове и прикоснулся к пульсу, аккуратно, как писец, помедливший на красной строке.
— Ничего нет опасного, — сказал он Грибоедову. — Нужно дать ему водки.
Влили в Сашкины губы водки, и Сашка, чистый, в белых бинтах, смирно лежал на своей постели. Грибоедов не отходил от него.
Он поил его с ложки и смотрел на него с тем отчуждением и боязнью, которая бывает в таких случаях только у самых близких людей.
Сашка вскоре заснул. Грибоедов просидел над ним до самого вечера.
Сашка был его молочный брат. Он помнил его маленьким мальчиком в синем казакине. Мальчик был с туманными глазами, желтыми цыплячьими волосами и вздернутым носом. Он стоял неподвижно посредине барской комнаты, словно ждал, что его толкнут сейчас. И Грибоедов толкал его. Сашка не плакал.
Грибоедов глядел в окно на четырехугольный двор с белеными стенами.
Саша Одоевский, его кузен, приезжал тогда, и они запрягали Сашку и долго его гоняли, а Сашка, как гонялый зверь, мчался туда и сюда, натыкался на кресла, пока маменька Настасья Федоровна не выпроваживала его в людскую. Саша Одоевский теперь в кандалах, а Сашка забинтован.
И он вспомнил, что папенька словно сторонился Сашки, словно даже побаивался его и хмурился, бывало, завидя его в комнатах, а маменька точно назло зазывала Сашку. Он вспомнил косой папенькин взгляд. И посмотрел на покатый лоб, на тонкие Сашкины губы; неужели Сашка и впрямь — его единокровный брат? Словно что-то в людской говорили об этом при нем, маленьком, — или словно спорил кто-то, няню поддразнивали, и няня плакала?
И еще дальше — теплые колени няни, Сашкиной матери, и важное, певучее вразумление:
— Ай, Александр Сергеевич, заводач!
Нина сидит в Тебризе и мучается. Он виноват, телом виноват.
Пусть спасутся все любимые им когда-то: Саша Одоевский, Нина, Фаддей, Катя и — Сашка. Пусть спасутся они, пусть их жизнь будет тихая, незаметная, пусть они спокойно пройдут ее. Потому что, если отмечен кто-нибудь, нет тому покою, и спасаться он должен на особый манер.
— Как я человек казенный, — хрипло сказал Сашка.
Грибоедов прислушался.
— Необразованность, — заявил Сашка.
— Спи, чего расходился? Заводач, — сказал Грибоедов.
Сашка успокоился.
Уже свечу зажгли, и заглянул Мальцов: ему нужен был Грибоедов.
— Рази? — спросил тоненько Сашка. — Рази мы уже уезжаем из городу Тегерану?
Вечером Грибоедов писал письма: Нине, матери, Саше Одоевскому. Письмо к матери он отложил в сторону. Отложил и письмо к Саше. Саша сидел в сибирском каземате, и нужно было ждать случая — годы.
Потом он принялся за письмо Паскевичу:
«Почтеннейший мой покровитель, граф Иван Федорович.
Как вы могли хотя одну минуту подумать, что я упускаю из виду мою должность и не даю вам знать о моих действиях… Я всякую мелочь, касательно моих дел, довожу до вашего сведения, и по очень простой причине, что у меня нет других дел, кроме тех, которые до вас касаются… Вот вам депеша Булгарина об вас, можете себе представить, как это меня радует: «…это суворовские замашки… Герой нынешней войны, наш Ахилл — Паскевич Эриванский. Честь ему и слава. Вот уже с 1827 он гремит победами». — А я прибавлю, с 1826. Впрочем, посылаю вам листочек в оригинале. Я для того списал, что рука его нечеткая…»
И писал, и писал, и писал.
Потом остановился вдруг и приписал:
«Главное».
Подчеркнул и разом:
«Благодетель мой бесценный. Теперь без дальних предисловий просто бросаюсь к вам в ноги, и если бы с вами был вместе, сделал бы это и осыпал бы руки ваши слезами… Помогите, выручите несчастного Александра Одоевского… У престола Бога нет Дибичей и Чернышевых…»
Сашка проболел неделю. Его избили действительно довольно сильно.
Все эти дни Грибоедов заходил к нему и подолгу сидел.
Мало-помалу Сашка рассказал в чем дело, и дело было не так просто.
Здесь была не только необразованность.
Сашка, будучи казенным человеком, гулял по базару. Он не интересовался никаким товаром и ничего не хотел купить, но приценивался ко всему.