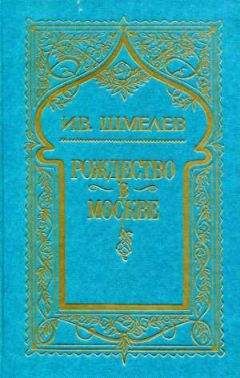Ознакомительная версия.
О дяде Васе надо вписать в «записки», тогда многое уяснится во всем нашем.
Он окончил гимназию с золотой медалью, поступил в университет, но скоро бросил ученье и пошел странствовать по России. Два года о нем ни слуху ни духу не было. Дед, говорили, исколесил всю Россию, где-то его нашел… – и воротился в большой тревоге. Скоро узналось, что дядя сослан в Сибирь на поселение. Дед ездил в Петербург и исхлопотал прощение: отдали дядю деду на поруки, и он поселился над нами, в мезонине. Мама раз мне сказала: «дядя добрый и… несчастный». Я подумал, что он потому «несчастный», что очень болен.
Редко я заходил к нему, и всегда с мамой, которая за ним ходила. У него все комнаты были уставлены полками с книгами и всякими аппаратами: он делал какие-то «опыты», – «химик», называл дед. Говорили, что он заболел в Сибири; а наши ездовые как-то сказали мне, будто его избили в рощах парни за какую-то девушку: он пролежал целую ночь в лесу, под холодным дождем, – отбили ему грудь. Он был красавец, но только совсем лысый и страшно худой, с горячими глазами. В его комнате не было ни одного образка, а на письменном столе лежал человеческий череп, очень страшный, как «адамова голова» Как-то я пробрался к нему без мамы – смотреть картинки. Он показал мне череп: «хорош фонарик?» – велел отвернуться на минутку, что-то сделал и приказал: «а теперь смотри». Я обернулся и увидал очень страшное: череп смотрел на меня зелеными глазами: в его глазницы вправлены были зеленые стекляшки, а внутри горела свеча. Я закрылся руками, а дядя засмеялся: «видишь, как это просто! был человек, а теперь фонарик». Я признался маме, что был у дяди и видел «человеческий фонарик». Она вся вспыхнула, сейчас же пошла к дяде и сказала, – я подслушал на лестнице: «стыдно показывать ребенку такие опыты!» И ушла, раздраженно хлопнула даже дверью. Я уже понимал, что дядя какой-то другой, чем мы. В церковь он не ходил и не пускал священников Христа славить. Хоть мне и было почему-то страшно, что он такой, но меня всегда тянуло к нему: на стенах у него были карты разных земель, висели с потолка птичьи чучелки, и всюду лежали атласы со зверьми, цветами, птицами. Но лучше всего была горка-камень, с вправленными в нее самоцветными камнями. Была еще на белом картоне, на стене, огромная лягушка, распластанная, будто человек. Я как-то спросил, зачем такая лягушка, распластанная? Он только засмеялся. Потом, уже взрослый, я понял, зачем лягушка: на лягушках в те времена делались опыты, лягушка оживала… – такие опыты делал известный Сеченов, написавший книгу «Рефлексы головного мозга», очень ценившуюся материалистами.
От ездовых я слышал, что дядя Вася богаче деда: «отказал ему дяденька миллиён». Знал я также, что дядя выстроил два училища для крестьянских ребятишек и что он «любит простой народ». Это было очень приятно мне. Должно быть за это и ухаживала за ним мама, которая тоже любила простой народ. Дед как-то сказал: «эх, золотое сердце, да ум-то у него… заумный»! Этого я не понимал. Прислуживал ему лакей Гаврилка, которого дед называл «петрушкой», за пестрое франтовство: Гаврилка ходил в разноцветных галстуках и штанах в клеточку. Дед раз схватил его за ворот и спустил с лестницы, когда Гаврилка осмелился ему сказать: «барин больны и не принимают-с». Дядя извинялся перед дедом: «он же дурак, прогнал бы его, да привык». Однажды, в грозу, я перекрестился и примолвил, при молнии: «свят-свят-свят, Господь Саваоф…» – было это при Гаврилке, в мезонине. Гаврилка сказал: «никакого Господа нет, а иликтричество давно всем известно по наукам!» Я сказал маме. Она ужасно рассердилась, пошла к дяде и заявила: «если такое повторится, я не стану ходить за вами!» Дядя умоляюще поднял руки и тихо сказал: «не бросайте хоть вы меня!» Он отказал маме все свое состояние, больше ста тысяч, – «за исцеление от самого страшного недуга», – так и написал в завещании. Я думаю, что он боготворил маму.
На другой день после «колива» в соборе была торжественная служба – «литургия с анафемой», – так у нас называли. Это была «неделя Православия». Собор был переполнен. На середину храма вынесли иконы, и вышло много священников с преосвященным. На солее стоял наш великан – протодьякон Дроздов, с черной бородой и пламенными глазами и выкликал имена святителей и царей, – так объяснил мне дед, – поминал их за подвиги во славу Православия. Потом возглашал вечную память. Но самое главное было после. Протодьякон изо всей мочи стал выкликать имена богоотступников и еретиков и после каждого имени гремел страшным голосом – «а-на-фе-ма-а!..» – а священники повторяли трижды – «а-на-фе-ма-а!..» Я разобрал имена, знакомые мне по Истории и по рассказам деда: «Пугачева Емельку», «Стеньку Разина», «Гришку Отрепьева»… и «всех богоотступников и преступников православной Державы…» – насколько помню. Было страшно. Недалеко от свещного ящика, где стояли мы с дедом, одна барышня вскрикнула – «Ой!..» – и упала в обморок. А протодьякон Дроздов гремел и гремел, пугая: «а-на-фе-м-а-а-а!..» Со страху я залез под свещной ящик, но дед вытащил меня за ногу и прошептал строго-строго: «Молись, а не трепещи!» Мама с отцом были тогда в Москве, на «сборное воскресенье»: была там в Манеже выставка куроводства, и они всегда ездили покупать отборные «гнезда» кур и уток, – оба были большие куроводы. Вернувшись, мама мне объяснила про «анафему», про богоотступников и «государственных преступников», которые хотят разрушить наше царство. В тот вечер я горячо молился чтобы не разрушили враги наше православное царство, и поминал-повторял: «анафема».
В вечер «анафемы» Гаврилка позвал меня к дяде: прислали новые картинки. Это был атлас рыб – совсем живые налимы, лещи, ерши… как в Ярыньке. Я сказал дяде про «анафему». Он усмехнулся: «вот идиоты-то». И стал говорить, что это ругань, а в церкви ругаться, кажется… – это «кажется» он произнес усмешливо и даже злобно! – не дозволяется. Я пошел к деду и рассказал. Дед сказал раздраженно – «не дозволяется?..» – взял Евангелие и велел: «читай», – ткнул пальцем. И я прочитал: «идете от Мене, проклятии… в огнь вечный, уготованный дьяволу и аггелам его…» Дед остановил: «„про-кля-тии!“ – слышишь?., „прокля-тии“?! это и есть „анафема“… и сказал это сам Христос». Я спросил: «а дядя Вася тоже анафема»? Дед поморщился и отстранил меня. Я не понимал, что сделал ему больно.
На другой день, с утра, я докатывал масленицу с «нашей горки» в саду. Была оттепель, горка разрыхла, продавливалась, и я стал помогать весне, расшвыривая лопаточкой мокрый снег. В березах протяжно каркали вороны, давились будто. Я стоял на площадке, откуда скатываются, у забора, за которым была дорога к реке. Везли лед набивать погреба. За дорогой тянулся снежный пустырь: зимой и на масленице здесь бились на кулачки, ходили «стенка на стенку» посадские и ткачи с большой мануфактуры. Недавно, на масленице, кузнец Акимов, первый у нас силач, один гнал стенку ткачей до самой Волги, и двоих отвезли в больницу. Я швырял снег и вдруг услыхал за забором охрипший выкрик: «всех убивать, анафемов проклятых!..» Я выглянул за забор и онемел от страху: у самого забора стоял великан-кузнец, с черной бородой и пламенными глазами, как у протодьякона, в черном полушубке, без шапки, и грозил кулаком. Я не успел присесть, и кузнец увидал меня. Он ковал у нас лошадей, ласково называл меня «пряничком». Но теперь он был совсем другой, очень страшный. Грозясь кулаком, он крикнул: «чего пляшешь безо время? – а я и не плясал, – проклятые анафемы нашего Царя убили!., бежи-прячься, всех убивать пойдем!..» Я свалился с горки в глубокий снег и затаился. А кузнец все кричал: «всех анафемов убивать пойдем!., бежи-прячься!..»
Я все сидел в снегу, от страха стуча зубами, и вдруг в ушах у меня загремел голос кузнеца: «нашего Царя
убили!..» Нашего Царя?., красавца, с высоким хохлом? – портрет его висел в кабинете деда. Царя нельзя убить, он – священный, Помазанник, вспомнил я слово деда, – «теперь у нас нет Царя… и придут враги, и будут всех убивать..?» А кузнец все кричал: «Царя убили, анафемы?! нашего Царя-Ослободителя?!.. теперь всех убивать пойдем…»
Я выбрался из снега и с плачем побежал из сада. Во дворе, под окнами людской, где обедают холостые рабочие, стоял приказчик Милочкин и кричал, стуча кнутовищем по окошку: «ей, выходя, робята!.. нашего Царя-Ослободителя в Питере вчерась убили!., бросай ложки!..»
Из людской выбежали пекаря, в одних рубахах, крестясь и озираясь, и на всех лицах я увидал – страх и страх. Как раз в эту минуту влетел во двор дед на «Ворончике», в беговых саночках, без шапки, и крикнул не своим голосом: «ребята, нашего Царя убили!.. Освободителя!..» Голос у него сорвался. Он тяжело поднялся из саночек, черпнул свежего снежку из кучи и стал жевать и тереть потемневшее лицо. Рабочие крестились.
Случилось это вчера, в Неделю Православия, почти час в час, когда возглашали анафему злодеям: 1 марта, 1881 года, в Санкт-Петербурге.
Ознакомительная версия.