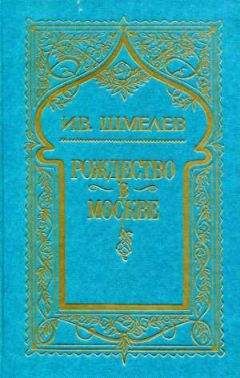Ознакомительная версия.
Дед велел печь блины, для нас и для рабочих. Пекли и в Лужках, ездовым и конюхам. Служили панихиду на дворе. Рабочие пели с певчими «вечную память», на коленях. Роздали нищим по пятаку, «за упокой».
Страх проходил: Россия теперь под сильным Царем, со всеми врагами справится. Но еще долго ходили караулом в околотке наши рабочие, держали «народную охрану». Ходили с ними, по очереди, и отец с дедом, давая пример порядка.
Теперь понимаю, что так дед воспитывал народ, приучал к «порядку», по силе разумения своего. И это, маленькое, все же была творившаяся на моих глазах – История. Такие же деды творили ее тысячелетие. И сложили великую Россию, ведя за собой народ. Прочтут мои неумелые «Записки»… – улыбнутся? Пусть же в Историю заглянут: народ творил! Когда умели его вести. Помню такую сцену, мама потом мне объяснила. Кричал дед и стучал кулаком по столу: «В Гатчину схоронился?!.. Иди к народу?.. Спроси у него совета!.. Иди к молодым, иди в Университеты!.. Собери же птенцов, сумей оте-чески им сказать, птенцам: „готовьтесь со своим Царем Россию строить!“ Да что же было бы, Го-споди!.. Да его на руках бы вознесли!.. Иди к мужикам, к рабочим!.. Открой им душу!.. Помоги, Господи!..»
Мама мне объяснила и сказала, что дед Иван сам написал Царю… – не получил ответа. Его вызывали к губернатору. Угрюмый вернулся дед.
Если бы он мог предвидеть, что случится через 37 лет! Теперь, вспоминая, вижу: посылались народу знамения. Цареубийство 1 марта 1881 года произошло почти что час в час с анафемствованием «богоотступникам и врагам Веры и Державы»; избрание на царство Михаила, пребывавшего с матерью в Ипатьевском монастыре, а династия кончилась в Екатеринбурге, в доме Ипатьева. Было и еще: в самый час Коронования – порвавшееся ожерелье Царицы. Были и другие знаки. Один из них был уловлен поэтом-символистом: Ф. Соллогуб, – Тетерников, – отметил его игривым стишком, как в начале войны 14-го года провалился Цепной, кажется, мост в Петербурге:
«Под палачами рухнул мост,
Погиб городовой Романов!
Поверьте, так же будет прост
Конец насилья и обманов».
Сшутил поэт. Служилый русский народ, воинская часть солдат-кавалеристов – не жандармов даже! – «палачи?!» Дождался поэт конца. Узнал все – и умер. Другой поэт проводил его не менее игриво:
«Эх, Те-те-ря!.
А что – теперя?!.»
Правда, надо воспитывать народ. Со школы надо. «Писал Ему и об этом… – сказал дед. – Да, со школы надо».
Какая правда! Я убедился в ней на моих уроках. Как жадно тянулись к живой Истории милые мои мальчики и девчушки! Я уже видел всходы, но было поздно.
Теперь – к семейному событию. А там – к самому роману, если только это роман… верней – к трагедии.
Январь, 1949
VI
Семейное событие, много уяснившее мне в жизни нашей семьи, произошло года четыре позднее «исторического»: мне было тогда лет девять, и я уже говел, как взрослые.
Мы только что вернулись от Светлой Заутрени и обедни. Ночь была темная-темная, и тихая, крапал дождик, но на душе у меня было светло, – воистину Светлый День. Все мы причащались в Великую Субботу, и оттого было так радостно, чудесно: очищение от грехов – и лучезарное Воскресение! Мне казалось, что мы, будто, другие, новые, как и все в нашем доме, очищенное и обновившееся, что мы совершили какой-то «чудесный подвиг». Все в доме, особенно в парадной зале, где были приготовлены розговины, блистало особенной чистотой, все будто оживилось, обновилось: воскрешено от греха и тлена, и потому так радостно и чисто, и так блестит. Огромный стол, раздвигавшийся только в великие праздники, для гостей, и в главные именины, блистал снежной белизной скатерти, цветами, серебром, хрусталем, – «пасхальным». Всюду корзины гиацинтов, сирени, тюльпанчики и первые, синие-синие, подснежники… – самая-то весна. На большом фаянсовом розоватом блюде – яркая груда пасхальных яиц, казавшихся мне священными, чудесно-пунцовых, радостных, – дед не любил пестроты. Великолепные куличи, еще дышащие теплом и сдобой, в пунцовых розах из нашей оранжереи, возглавлялись кудрявыми, будто живыми, «агнцами», выделки знаменитого нашего пекаря Прони, – «артиста», называл его дед, – «хоть бы в Москву, на выставку». Блистающие чистейшею белизною-чистотою пасхи убраны были по боковинкам священными «страстями»: крестом, копией, лесенкой, виноградной гроздью и свято-знаками – X. В. – от мастерских форм, искусной резной работы того же Прони, – не налюбуешься. И всего было в изобилии, чем полагается разговляться, и все – в радостных украшениях и цветах. Самое освещение было особенное, пасхальное: не лампы, а кубастые восковые свечи, повитые тонким золотцем, в пунцовых бантах, – в блистающих бронзой канделябрах, и в мутно-хрустальной люстре: мягкий, священный, свет, – «тихий свет». Все мы были праздничные, «пасхальные»: мама, совсем воздушная, розово-снежная, кружевная, «красавица из красавиц», – называла ее Катюша, – «высокий идеал», восторженно думал я, любуясь ею; поздней, переняв от отца, я называл ее, по Пушкину: «чистейшей прелести чистейший образец»; бабушка, помолодевшая, «гелиотроповая», в жемчужно-серебряной наколке; отец, в отличном фраке, с глубокой белоснежной грудью, с редкостнейшим «цветком английских лордов», – гардэнией, на шелковом отвороте фрака. Будто только-только из-под венца; но ослепительней всех, – благообразней, хотелось бы мне сказать, – величественней и благостней, – дед Иван: от величавых седин, от свежего мастерского сюртука, от ордена св. Владимира… исходило блистание света, – «священного», казалось. Не говорю о себе, о Катюше, и о меньшей сестренке, Оленьке: мы были «ангелочки», «небесно-непорочные», называла нас бабушка. Все были радостны, все сияли, все – чистые.
В этот памятный день пасхальных розговин случилось неожиданное, наполнившее всех нас особенно-новой радостью: спустился из своего мезонина дядя Вася. Я не помнил его за розговинами с нами. А в этот Светлый День он неожиданно сошел к нам, и не во всегдашнем, «больном», халате, а в щегольском сюртуке, враспашку, муарово-лучезарном галстуке и низко вырезанном жилете сиреневого тона; но… с ужасной своей «плевалкой», с синим стаканчиком, от которого остро пахло скипидаром. Его неожиданное появление изумило всех. Дед сам подвинул ему кресло, обнял за талию, сажая, и сказал торопливо-радостно: «вот обрадовал… ми-лый!..» Мне было и радостно и жутко: в щегольском сюртуке дядя показался мне почти неживым, другим, страшным даже, от худобы мертвенно-бледного лица, будто чуть подрумяненного на скулацах, от ввалившихся глаз и исхудавших рук, с тонкими лучиками косточек. На слова деда он глухим шепотом выговорил: «скучновато одному… хочется вспомнить давнее, детское…» Не было на его губах обычной кривой усмешки. Мне почувствовалось, что происходит что-то, совсем особенное: все примолкли, словно боялись, что разговор может повредить больному, такому слабенькому, как мыльный шарик, – так и подумалось, – и он растает. Но не в этом «событие».
Дед взял лежавший перед его прибором лист бумаги, – все ожидали его христосованья, как всегда, и не начинали разговляться, – надел очки и стал просматривать написанное. Я знал, что это список бедных семейств, кому посылалось «праздничное». Сейчас и начнутся розговины. Но дед тряхнул головой, и лицо его стало красным.
«Постойте… позвать Ансеева!.. – воскликнул он строго и тревожно, – что за… „ис-то-рия“?!..»
Все переглянулись, тревожно тоже. Такое необычное в такой День! такое деловое, будничное!.. Лицо деда похмурилось, в тревоге.
Явился старший приказчик Ансеев, почтенный старик, медлительный и всегда суровый, – «канцлер» деда. Он был еще парадный, в долгополом сюртуке, с зарумянившимся лицом, что-то еще прожевывал: должно быть, оторвали его от розговин. Как и у всех нас, на его суровом лице была тревога.
«Почему не показаны Семечкины?.. не послано?!..» – чуть в раздражении спросил дед, протягивая лист Ансееву и выжидающе-хмуро глядя в лицо приказчика. Тот пробежал глазами, недоуменно.
– «Опущено-с… доточно помню, что послано!., на семерых-с!.. – и его озабоченное лицо выразило недоуменный вопрос – Конторщик промахнулся, Иван Васильич… у меня красным подчеркнуты Семечкины… самоважней-шие-с… как можно!., будьте покойны-с».
– «Верно?., честнб-е слово?!»
– «Не извольте сумлеваться, все ублаготворены-с… утресь сами опросите».
– «Ручаешься?., знаешь наверное?..»
– «Поручусь, будьте благонадежны-с».
Дед взял красное яйцо с блюда и дал Ансееву.
– «Верю. Не пеняй, что потревожил неурочно. Ну, еще раз – „Христос Воскресе!“»
Ансеев, поликовавшись с дедом, хотя уже христосовался в Заутреню, сказал как-то опасливо-благоговейно:
– «Помилуйте-с, Иван Васильич… все понимаю… сами перетревожились».
Ознакомительная версия.