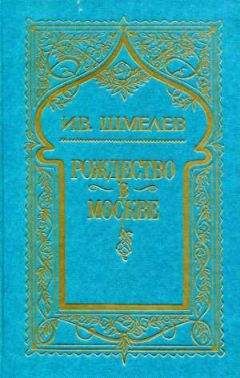Ознакомительная версия.
– «Верю. Не пеняй, что потревожил неурочно. Ну, еще раз – „Христос Воскресе!“»
Ансеев, поликовавшись с дедом, хотя уже христосовался в Заутреню, сказал как-то опасливо-благоговейно:
– «Помилуйте-с, Иван Васильич… все понимаю… сами перетревожились».
Вот это – «перетревожились», Ансеева, крепко осталось в памяти. «Какой милый Ансеев», – подумал я. Понял ли я тогда это – «перетревожились»? Конечно, понял-сердцем. Это было уже мое, заветное и больное даже. Оно было в каждом из нас. Все, радостные, когда садились за стол, и вдруг насторожившиеся тревожно, когда дед крикнул – «позвать Ансеева!» – празднично просветлели, в радости. Эта знакомая мне «тревога» томила меня всегда, когда предстояло радостное: когда повезут в театр, в канун ли великих праздников, в именины, или когда парадно одевали в новое… – тревожащее чувство – «а у других? будет ли радость всем?..» Мне было стыдно, что у других этого не будет, такого нарядного костюмчика, из Москвы, в хрустальных пуговках, с петельками и шнурками… Бежишь садиться в парадные сани – ехать в театр, на елку, – и вдруг увидишь сынишку дворника Матвеича или ездового Никиты, и станет тревожно-стыдно: «а они все такие же, „будничные“?..» Даже до смешного: увидишь в сенях лопату, метлу в углу, а ночь такая морозная, радостная, в святочных ярких звездах… – жалостно станет в сердце, с укором будто: «а они так и будут стоять в темноте и мерзнуть…»
Это болезненное чувство – откуда и как родившееся? – многое объяснило мне в дальнейшей жизни, когда раскрылись передо мной чудеснейшие и страшные ее страницы… – тревожно требующее наполнения.
Розговины тогда стали ликованьем, наполнились чудесным светом. Все затеснились к деду особенно будоражно-радостно: начиналась заветная раздача сверкающих «пасхаликов». Дед достал из бархатной коробки большое золотое яйцо, развинчивавшееся на половинки, и высыпал на фарфоровое блюдечко присланные, по заказу из Москвы, «пасхалики», – малюсенькие, не больше воробьиных, граненые яички из самоцветных уральских камушков: рубиновые, яхонтовые, аметистовые, топазовые, сердоликовые… всякий год, в розговины, одаривал он нас всех, и эти яички привешивались на тонкие золотень-кие цепочки или на пунцовый шнурок, – к прежним «годовичкам». У нас с Катюшей было их больше дюжины, и от отца с мамой, и мы носили эти «пасхалики» всю Святую под рубашкой: мы верили, что они воскрешают нас, освящают и охраняют от зла-греха.
В те памятные розговины все были радостно взбудоражены, все смотрели через яички на блистающий стол, на свечи… и вдруг услыхали глухой, едва различимый голос:
«А мне… бу-дет..?»
Все вдруг оторопели, оглянулись на дядю Васю… Силясь подняться с кресла, он глядел на нас жалобно, разевая рот, будто ловил губами воздух. Он ссутулился, и его крахмальная рубашка ввалилась в него, будто за ней была жуткая пустота. Все примолкли, как от испуга, но дед сказал оживленно-радостно: «Тебе-то да не будет!..»
Сам подошел к нему и дал чудесное-изумрудное, все в сверканьях. Прикрепил на пунцовой ленточке к сюртуку, у сердца. Дядя Вася нагнул голову, приподнял яичко и поцеловал его.
«Благодарю, папаша… обрадовали…» – и стал подниматься с кресла. Дед заботливо, осторожно, положил ему на плечи руки, чтобы он не трудил себя, но дядя, запыхавшись, все-таки силился подняться – прерывисто, шепотом говоря:
«Я сам… обрадовали… ах, ка-кой вы!..»
Дед склонился к нему, торопливо сказав – «Христос Воскресе!..» – и поцеловал три раза.
«Ты меня, Вася, обрадовал…» – сказал он тихо.
– «Чем я могу… обрадовать, папаша!.. – чуть усмешливо-грустно с трудом выговорил он. – Дайте мне наст о я щ е е… чудесное…» – и он показал на пасхальные яйца на столе.
Дед взял с блюда пунцовое и дал дяде.
– «Ну, милый… Христос Воскресе!..»
Дядя Вася – так это вышло неожиданно, – выпрямился усилием в рост деда и отчетливо произнес:
– «Воистину Воскресе!.. так… обрадовали…»
– «И хорошо… слава Богу… – сказал торопливо дед, – угодил яичком?..» – показал он на изумрудное.
– «Бо-льше… ши-рокий вы… тревогой своей обрадовали».
Он изнемог и, отирая капли на помертвелом лице, осел в кресле. Дед обнял его и сотрясался… – казалось, он заплакал. Нет, он не плакал, а сотрясался от волнения: когда он поднял лицо, оно светилось как будто новым взглядом, совсем молодым, детским. Он не мог произнести ни слова обмякшими, несходившимися губами. Я силился не заплакать. А мама была в слезах, смотрела, прижимая руки к груди, как всегда, когда очень взволнуется. Отец обнимал дядю, и все мы толпились-торопились, понимая, что сейчас было такое важное… На лице дяди Васи выступили капли… слезы? дядя стыдился их? Он осел в кресле и отирал салфеткой лицо.
– «Воистину… Воскресение!..» – будто не своим голосом выговорил дед.
Теперь я знал, что случилось, и почему случившееся – великое событие. Оно повторялось в моей жизни, когда я перечитывал в «Братьях Карамазовых» лучезарный из лучезарных снов – «Брак в Кане Галилейской». Тогда, в розговины, на моих глазах, сотворилось ослепительное чудо. Оно непременно повторится, кажется мне порой, – увижу ли я его? – и наше семейное, событие, претворится в событие историческое.
Январь, 1949
К 45-летию кончины А. П Чехова – 2 июля, 1904
О смерти Чехова я узнал на рыбной ловле, под Владимиром-на-Клязьме. Сопровождавший утреннюю почту знакомый почтарь из Судогды остановил тарантас на плавучем мосту, полюбопытствовал, как рыба, и, закуривая, сказал: «еще не читали. Чехов помер». Известие не было неожиданным: уже по газетам чувствовалось, что конец близок. Мы поговорили о покойном. Почтарь читал «веселые» его рассказы, вспомнил «Винт», «Сирену», еще что-то…
– «Душа отдыхала. Придешь со службы, поешь и сейчас что-нибудь из Чехова. И такое, знаете, успокоение нервов… сразу и заснешь».
– «Царство ему небесное… – воздохнул ловивший со мной николо-мокринский дьякон, и на его испитом, дергавшемся лице изобразилась искренняя печаль. – Вы „Архиерея“ прочитайте, ничего подобного никто не писал».
Он вытащил фунтового соменка и не сказал свою приговорочку при удаче – «ловись, рыбка большая-маленькая».
– «Это как бы в его память: любил рыбку ловить покойник».
– «А про „Налима“-то!.. – воодушевился почтарь, – сосмеху лопнешь, до чего же з-замечательно!..»
– «Любил рыбку ловить покойник…» – задумчиво повторил дьякон, и в его голубых глазах, заслезившихся от волнения, затуманилось грустью.
Он начал сматывать удочки, вымыл ослизлые руки и вытер о затрепанный белый подрясник с присохшей чешуей. Утро разгоралось, рыба брала лениво. Мы пришли на весь день и еще часть ночи захватили, – кидали подпуска, не попадется ли стерлядка. Сели закусить на бережку, подремали. Да, любил рыбку ловить… Вспомнилось из дней юности, как посчастливилось мне встретиться с Чеховым, о котором тогда и не слыхивал, в Мещанском саду, в Москве, на пруду. Светом хлынуло на меня, и было в этом свете такое благостное, что захотелось поделиться с дьяконом. Много я узнал от него из жизни духовенства и по рыбной ловле: лучший был рыболов в округе, а про рыбью жизнь мог рассказать не хуже Аксакова.
– «Ну-с, пришли за карасями на зорьке?..»
– …«И видим, с приятелем Женькой: как раз на нашем месте, где прикормка, сидит незнакомец, в соломенной шляпе, в пестрых брюках, голенастый… и – карася за карасем! А караси – как лапоть. Женька сердито тмыкнул и говорит с намеком:
– «Раз правил не знают, садятся на чужое место… приходится перейти на другое!..»
А перейти-то и некуда, все ветлы, забросить трудно. Женька как раз поплавок хотел обновить, «дикообразово перо», за 75 копеек, – латинский словарь букинисту оттащил. Стал забрасывать, – поплавок и зацепись за ветки, да саженях в трех от берега, – очень развесистые ветлы. Звонил-звонил, дергал-дергал… – не отцепляется. А незнакомец… в чусучовом, помню, пиджаке, в пенсне, лицо приятное, умное… вытащил крупнейшего карася! принял на сачок и говорит, нам будто:
– «Не карась, а золотая медаль!» Сердце прямо у нас упало.
– «Плевать!.. – кричит Женька, – правил не признают, – рядом буду закидывать!..»
Подошли, глядим: поплавок незнакомца тихо так повело, даже не тюкнуло. Насторожился он, удилище чуть подал, не потревожить чтобы… – мастера сразу видно. А оно прямо к осоке повело. Подсек умеючи, стал выводить… – невиданный карасище, мохом будто зарос, золотцем чууть поблескивает. Голенастый тут все забыл, в воду даже ступил в ботинках, схватил под жабры и выкинул на берег, – тукнуло, как кирпич. Вывернул из жирной губы крючок… – «колечко» у карасищи в копейку было, гармонья словно, – и говорит:
Ознакомительная версия.