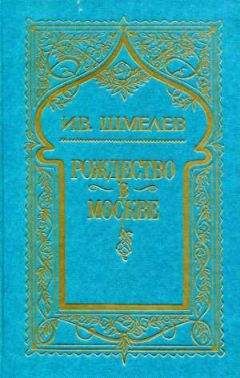Ознакомительная версия.
Дьякон, спуская первый кружок, – снизу кружок окрашивается в белый цвет, издалека видный, – на окунька, перекрестился.
«Благослови Господи… в память новопреставленного раба Твоего Антония, а нам во утешение. Значит, так: первая перевертка его, так и будем знать. И четвертая опять его. У нас девятнадцать, – семь, стало быть, возможных переверток, в его память».
Как всегда, он поцеловал наживку и, что-то шепча, должно быть какую-то свою молитву, спустил кружки. Двинулся кружок плавно и скоро стал походить на красную лодочку с белым паруском – так красиво! Раз за разом мы поспускали все. Целая флотилия, саженей по десять промежутка, на полверсты. Поехали голубчики за товаром, что-то нам привезут?.. Закурили, любуемся. Первый чуть виден, на прямой полосе руки. Такое-то приволье, благодать. Слева, от поймы, где начался покос, тянуло медом, густым и теплым, раздольем вошедшего в силу лета, не оторвешь глаз от красоты – святой, природной, не накупаешься в этой душистой теплоте, не надышишься бальзамом цветов и трав.
Дьякон замотал головой и перекрестился.
«Го-споди милостивый! Благословен буди за радостное творение Твое!.. Правда? – обратил он ко мне сияющее лицо, на котором поблескивало слезой благодарения. – Ну, скажите, милый брат мой… за брата я вас… одних мы годков с вами и любим Господнее творение, переполнены оба благостью. Скажите… ну, зачем он туда поехал?! а?., в чужую землю?!., а! Ну, где там такое приволье, такая красота?.. А тут – прямо, целительное растворение воздухов, здоровье ведрами льет в тебя… а?!. И самые больные легкие поправляются, уверяю вас. Сколько случаев знаю, сколько молебнов отпели с протопопом, по случаю исцеления. У меня все записано, доктора знают, и сколько к нам присылали совсем приговоренных! Ан, глядь, через два-три месяца, и рыбку ловят, и всякий кашель, – как не бывало. После каждое лето приезжали, во какие, кровь с молоком. А он, читал я, на кумыс ездил, и никакой пользы. А у нас да сколько хочешь отменного кумыса, татары делают, в солободке. Говорят, такого степного приволья поискать надо… не хуже, чем у башкирцев. Ку-мыс… не упьешься. Я ведь тоже страдал чахоткой… обе верхушки тронуты, теперь все зарубцевалось, и никогда лихорадки, хоть и пропадаю на реке до холодов. Ну, слабость моя… И знаете, скажу доверительно вам, – я ведь неполноправный, в иереи не могу рукоположиться… – и скорбь это моя великая, что не могу. Почему? Поведую, дружески только, по секрету. Знают некоторые, конечно… но это не в позор мне, а во испытание. Падучий я, еще с семинарии. Припадки были, но давно, слава Богу, нет… а все-таки рукоположить меня никак нельзя, за физическое несовершенство. Ну, как я могу совершать таинство? – «Твоя от Твоих»?!. Самый волнующий момент, когда пресуществление хлеба и вина? Меня всегда волнует, когда подходит самый священный момент… созерцаю и молюсь… и страшусь, как бы оно не случилось. Господь дарует укрепление, поплачу только, и ноги начинает сводить… но ни разу не было потемнения… А раньше я по полсуток в беспамятстве бывал. А потом неделю как не свой, не приведи Господи! Я и не заикаюсь, не смею. Новый преосвященный думали рукоположить… Ну, им о. протопоп поведал. Матушка-дьяконица до сей поры боится на реку одного пускать, сыночка со мной снаряжает. А сегодня я с бухгалтером снарядился, да он рано ушел с моста, ревизия у них, в Казенной Палате. И правда: ну, как ей меня пустить? Плаваю хорошо, ныряю не хуже сома, а в припадке-то я – бултых с головой!., один-то. Особливо осенней порой, нерета на налимов ставить… никак одному нельзя. И сам побаиваюсь. Ну, она тогда сама со мной, и пробковый пояс велит, как я нерета ставлю, по омутам, берега крутые… не дай Бог, ежели случится. Да, о чем это я хотел?.. Да, и думаю: зачем он туда, в чужую землю?! Мне наш доктор Михайла Алексеич Сувалкин рассказывал: ведь его знаменитый Остроумов, профессор в Москве, как отговаривал в Крым даже ехать: жарой, говорил, замучает. А поезжайте на дачу, где потише, ветра нет, между горками, в самой благодати-привольи поживите, парное молочко пейте… Ну, воля Господня. Э-эн, где наши лодочки-то гуляют! Да стойте… никак донышко белеет, перевертка была, а мы и не видали! Да вон, к правому берегу, покруче где… красный обрыв!.. Есть одна, только бы не впустую…
И я заметил: белеет донышко, перевертка!
– Ишь, как полощется! как поплясывает-то! а?!. Есть!., в светлую ему память!.. Только бы не сошел. А другие… раз, два, три… четыре… – ждут.
Он высмотрел и насчитал семнадцать. Еще где-то перевертка, моя, девятнадцать было кружков. Как мы ни смотрели, нигде белого донышка не видно. Очевидно, прибило-забило к кустам, в осочку. Мы стали подгребаться и скоро заметили эту вторую перевертку: под ольховым кустом, недвижную. Но это еще ничего не значит. Щука если, – забьется под берег и затаится. Могла и сойти, конечно. Подгребись к первой перевертке, под № 5, на донышке, – в память его. Оба в дрожи великого волненья, удастся ли. А белое донышко все поплясывает, – есть! Щуренок, надо думать, предполагает дьякон: частая очень пляска, не сильная, без нырянья. Да разное бывает, всего не предусмотришь с рыбой, какой тоже характер, – да и воли, может, добыче нет, бечевку вплотную затянуло, а то и зацепилась за коренье. Подъезжаем. Дьякон, покрестившись, стал принимать бечевку в лодку…
– «Ого-о… сидит… что т-такое, не пойму?!.. Раз здорово дернуло, а теперь свободно идет. Стой, сидит!.. – крикнул он вдруг, – сачок!..» Я приготовил сачок, на случай. Блеснуло белым брюхом, – крупное что-то… щука? Без сачка, под жабры, с натугой, бросил дьякон в лодку большого судака! – ахнул даже. Накрыли сеткой, – прыгает чуть ли не на аршин.
«На голову ему хламиду!.. – крикнул дьякон, – сейчас успокоим, и мучиться не будет».
Он взял охотничий нож и ловко, под сеткой, воткнул под хвостовое перо. Брызнуло кровью, и судак мгновенно замер в параличе.
«Я так всегда с крупной рыбой, никаких мучений. И заметьте, какая выгода: лишняя кровь сошла, рыба не мучилась, не измоталась, а, стало быть, и вкуса не потеряла, живая свежесть… сравнить нельзя, если замучается. Это уж вы сегодня у меня отведаете клязьминского судачка. И на заливное, и холодненького с хренком, со свежим огурчиком.»
Мы долго любовались судаком, в ярких живых полосках. Живца, окунька вершка в три, заглотнул до отказу, в брюхе уж у него окунек был. Вскрыли и вынули. Окунек еще был живой, тут же его и насадили снова на тот же кружок: счастливый. Тут же и спустили, опять в его память светлую. Дьякон был в великом возбуждении, я даже стал бояться, как бы с ним не случилось. Он обложил судака травой и замотал бечевкой. Фунтам к пяти был судак, на редкость.
– «Ну, и удача!.. – говорил в восхищении дьякон. – Удача из удач! Только второй раз, как к пяти фунтам беру, на кружки еще ни разу не было. А на дорожку, на ерша, раз добыл, около шести фунтов. Клязьминский судак-не сравнить ни с волжским – „нефтяником“, ни с окским, наточно знаю, и рыболовы все признают, очень сюда охочи ездить. Тоже и сомики: наши – как писчая бумага. Тоже и судак наш, белей снега мясцом, так дольками и отслаивается. А посему, Господи, благослови…»
Мы выпили по хорошей, станционной, рюмке и закусили попросту, зеленым луком с хлебом и печеным яичком. Поплыли ко второй перевертке, моей. Она спала. Я стал выбирать бечевку, – есть! Попал щуренок, фунта полтора-два, приятный. Высмотрели и нашли еще две перевертки: дьяконова и опять – его. На первом кружке взяли окуня, фунтового, – красота.
– «Щуренка стоит!» – сказал дьякон.
Верно, фунтовый окунь по вкусу и крепости не уступит и судачку, особенно маринованный. Четвертая перевертка оказалась пустой, живец сорван. Больше, сколько ни ждали, переверток не было: солнце стояло высоко, бор прошел.
– «Все ублаготворены, без обиды. И уж как же я рад, что ему такое благоволение оказано!» – радостно повторял дьякон. – «Уж так-то рад, не сказать. Ах, порадовался бы, милый… Портрет его у меня, в приложении к „Ниве“, вырезал, повесил над письменным столом. Почитаю – погляжу. Ах Господи… как он „Архиерея“-то изобразил! Читаю – и плачу, от радости. Ну, скажите… ну, как вы думаете?.. Ну, кто мог бы так ласково описать?., с такой любовью?!. Это все пустяки, все облыжно и пишут, и говорят… соберутся у меня семинаристы… и то же… – он, говорят, тут переборщил, подсластил!.. Дураки!.. Я им говорю – это вы по Писареву! он – самый верующий, куда, может, верней нас верует! И никакой не атеист! вре-те, подлецы!., прости меня, Господи! Так ласково, благородно-нежно! Никакой теперешний писатель так не сумел бы!.. И дара такого нет теперь, чтобы ласково… а все подделка пошла, под хулу, очернить самое благородное. Все знаю, больше их всех знаю, какие непорядки в нашем сословии, в церковниках наших. Этого и Лесков не боялся показывать, а „Соборян“ написал! Там один Туберозов за святого сойти может! А дьякон-то, а? Ахилла-то!., а? А Захария-то, старичок расчудесный, святая душа, ребенок!.. Господи, до чего же все хорошо! когда всю правду, без облы-ганья, дают. Святой Архиерей, – слу-жи-тель Божий, воистину… Без слез не могу. Все грехи Господь отпустит рабу Божию Антонию, ныне новопреставленному… Дитю ведь описал, Архиерея-то… чистота, кротость, терпение… из последних сил служил в великий четверток, когда „Страсти“ читал, а уж дурнота его одолевала… вот это – служение!.. А мамаша-то его… бедная старушка… дьяконица моя слезами обливается, все поняла!.. Осень уж… дожди… скотину ко дворам гонят, уж сумерки, бабы подолы на головы, а она, матушка, стоит с вербочкой и о нем думает, сирота. И никто-то ей из баб не верит, как начнет про сынка… что вот, архиереем был. Ну, кто так мог сердце ма-те-ри!.. а?., рыдаю, обливаюсь от умиления. А старичок-то, келейник-то, стро-гий, растирал-то его, со свечечкой?.. Как любовно изобразил!.. Царство ему небесное.»
Ознакомительная версия.