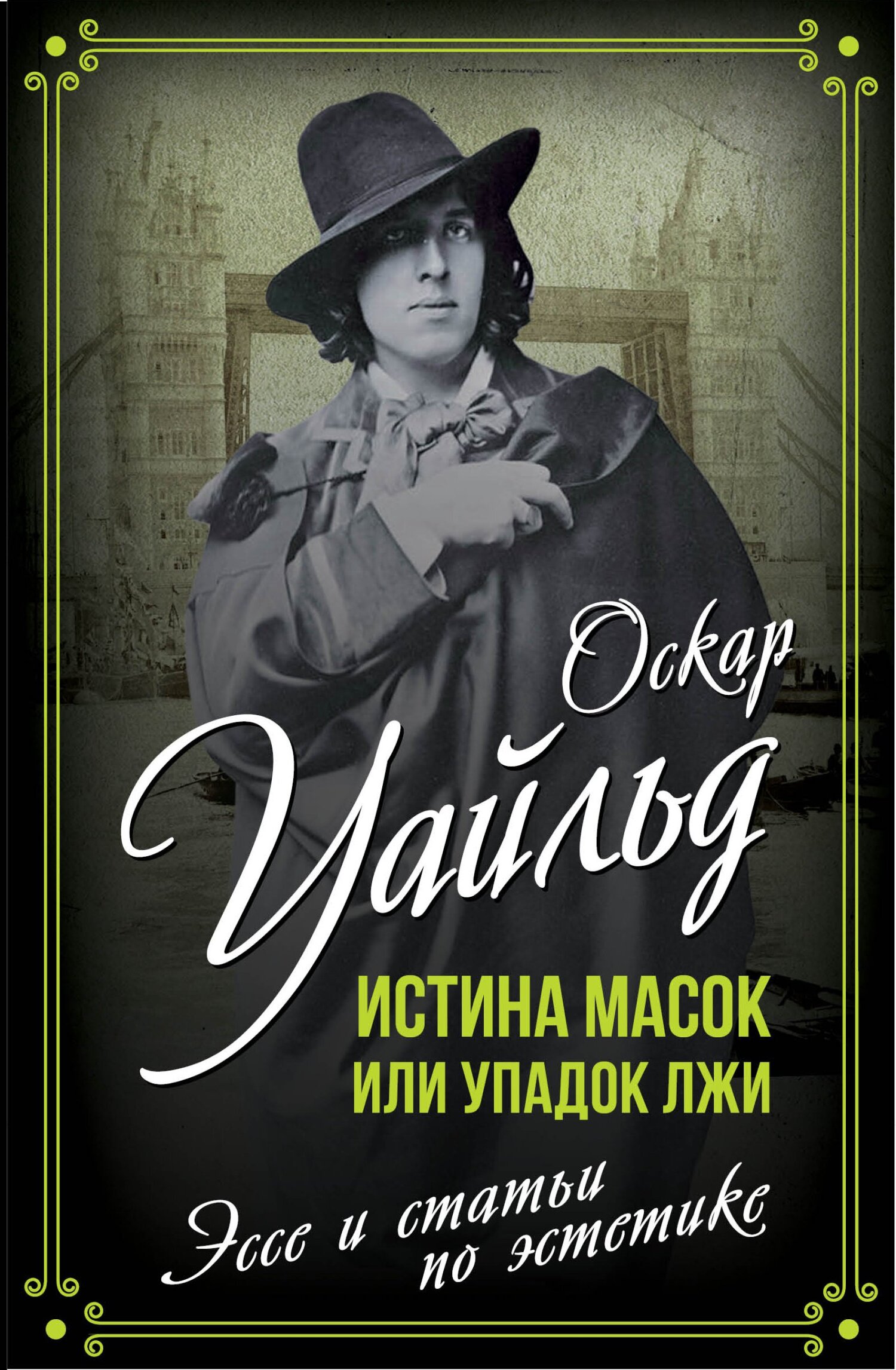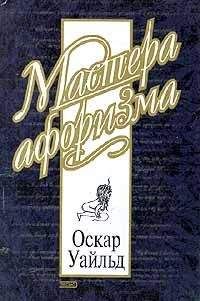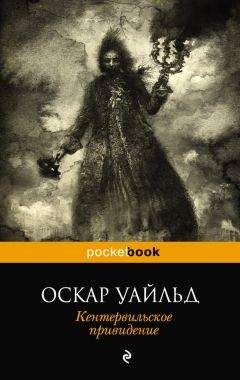свойства, которое должно особенно цениться нашим веком, так отсутствие этой мощи один из его главных недостатков.
Перейдем к его описанию картины Джулио Романо «Кефал и Прокрида»:
«Следовало бы прочесть «Плач о милом пастушке Бионе» Мосха [216], прежде чем любоваться этой картиной; или же в качестве подготовки к чтению изучить картину. Ибо в обоих случаях перед нами почти одинаковые образы: жертву оплакивают высокие рощи и лесные лощины, из чашек цветов льется скорбное благоухание, соловей рыдает на крутых склонах холмов, ласточка стонет над долинами, вздыхают сатиры и укрытые темными покрывалами фавны, льют слёзы нимфы у источников, стада покидают пастбища, ореады бегут прочь от родных сосен на вершинах скал, дриады печально протягивают к погибшей руки ветвей, наяды тоскуют и рыдают о Прокриде, оглашая воплями синюю даль океана, золотые пчелы забыли о благоуханном тимьяне Гимета… Чистый зов рога возлюбленного Авроры никогда больше не рассеет предрассветную мглу. На первом плане изображен поросший травой и выжженный солнцем пригорок с волнистой поверхностью (нечто вроде буруна), еще более неровной из-за ползучих корней и покрытых молодыми побегами пней. Справа он круто поднимается и переходит в густую рощу, в чащу которой не проникает ни один луч света. На опушке рощи убитый горем фессалийский царь держит на коленях беспомощно обмякшее тело цвета слоновой кости. Мгновение назад она, полная жизни, пробиралась сквозь кусты и тернии, ослепленная ревностью, теперь застыла неподвижно, лишь ветер играет густыми прядями ее волос.
Под деревьями теснятся изумленные нимфы, оглашая окрестности плачем, робко подходят сатиры в оленьих шкурах, увенчанные плющом, на их лицах скорбное и странное выражение. Ниже лежит Лелапс, его неровное тяжелое дыхание говорит о скорой смерти. С другой стороны стоит, бессильно опустив крылья, Целомудренная Любовь и целится из лука в толпу лесных обитателей: фавнов, сатиров, зверей.
Вся эта толпа стремится вперед по тропинке у скалы, на нижнем уступе которой хранительница источника льет из амфоры печально журчащие воды. Выше и дальше между обвитыми виноградом стволами видна женская фигура, рвущая на себе волосы. Центр картины заполняют тенистые луга, спускающиеся к реке, за ними расстилается могучая ширь океана, по глади которого гасительница звезд розоперстая Аврора бешено гонит взмыленных коней, торопясь застать смертные муки соперницы».
Если бы Уэйнрайт обработал это описание тщательнее, оно было бы бесподобно. Мысль превратить рассказ о картине в своеобразное стихотворение в прозе изумительна. Многие лучшие произведения в современной литературе возникают благодаря этому стремлению. В наш скучный рассудочный век искусствам приходится заимствовать сюжеты не у жизни, а друг у друга.
Круг интересов Уэйнрайта был удивительно широк.
Например, его увлекали все грани театра, он настаивал на необходимости соблюдать историческую точность костюмов и декораций, говорил, что анахронизм мешает определить границы.
«Если для искусства, — говорил он, — стоит вообще что-нибудь делать, необходимо это делать хорошо».
В литературе он был, пользуясь определением лорда Биконсфилда [217], «на стороне ангелов». Один из первых зачитывался Китсом и Шелли — «трепетно-чутким и поэтичным Шелли». Его восхищение Вордсвортом было искренним. Уильяма Блейка он высоко ценил. Одна из лучших существующих копий «Песен Ведения и Неведения» [218], была изготовлена специально для него. Он любил Алена Шартье и Ронсара, драматургов эпохи Елизаветы и Чосера, Чепмена и Петрарку. Для него все виды искусства сливались воедино.
«Наши критики, — проницательно замечал он, — не признают тождества источников поэзии и живописи, и того, что истинный успех в одной отрасли искусства всегда соответствует успеху в другой».
Далее он писал: «если человек, не восхищающийся Микеланджело, толкует о любви к Мильтону, он обманывает или самого себя, или других».
С коллегами по «London Magazine» он всегда вел себя благородно и достойно. Искренне, без задней мысли хвалил Барри Корнуолла, Алана Канингема, Хэзлитта, Элтона и Ли Ханта.
Некоторые из его этюдов, посвященных Чарльзу Лэму — произведения, в своем роде превосходные. Уэйнрайт мастерски подражает стилю того, кого описывает:
«Что я могу сказать о тебе, помимо известного всем? Ты совмещаешь в себе веселый нрав юноши с мудростью старца, у тебя самое любвеобильное сердце из всех, что хоть однажды заставляли плакать».
Как вовремя он мог не понять вас, сколь своевременными в его устах казались даже самые неуместные остроты. Он говорил просто и лаконично, подобно писателям елизаветинской эпохи, настолько лаконично, что иногда смысл сказанного ускользал. Его изречения можно собирать, как драгоценные камни и составлять из них книги.
Беспощадный к раздутой славе, он не скупился на колкости по поводу моды на гениальных людей, называл «сердечными друзьями» сэра Томаса Брауна, Бертона и старика Фуллера [219]. В минуты любовного настроения он забавлялся чтением фолио «Герцогини Мальфи» [220]. Комедии Бомона и Флетчера [221]навевали на него светлые грезы. Он высказывал мнение о них вдохновенно. В таких случаях лучше всего было предоставить рассуждать ему одному: если кто-то выражал иное мнение о его фаворитах, Уэйнрайт мог прервать его или в ответном замечании не скрывать непонимания и досады. Как-то вечером у С. темой разговора были, среди прочего, два этих драматурга. Мистер X. Стал хвалить страстность и высокий слог трагедии (не помню, какой), но Элиа перебил его, сказав: «Это пустяки. Главное — лиризм».
Одна сторона литературной деятельности Уэйнрайта заслуживает особого внимания. Современная публицистика обязана ему несравненно большим, чем любому другому автору начала нашего века. Он был пионером прозы в восточном стиле, увлекался эпитетами и высокопарностью. Одной из главных заслуг школы передовиц с Флит-стрит является создание стиля столь блестящего, что он заслонял содержание. Можно утверждать: Янус Вайтберкок был основателем этой школы. Он хорошо понимал также, что публику легко заинтересовать своей персоной, если постоянно говорить о себе. Этот незаурядный человек в публицистических статьях рассказывал, что ест на обед, где шьет себе платье, какие вина предпочитает, насколько здоров, словно писал еженедельные хроники для популярной современной газеты. Эта — наименее ценная сторона его творчества — принесла наибольшие плоды: сегодня публицист — человек, докучающий публике мелочами своей частной жизни.
Как все извращенные натуры, Уэйнрайт очень любил природу. «Я особенно, ценю три удовольствия: — говорил он, — сидеть на вершине холма, с которой открывается прекрасный вид, быть в тени деревьев, когда все залито солнцем, и наслаждаться одиночеством, чувствуя близость людей. Все это мне дает деревня».
Он бродил по поросшим вереском лугам, декламируя «Оду вечеру» Коллинза, чтобы ощутить красоту мгновения, погружал лицо в покрытую росой клумбу, описывал, как приятно смотреть на пахнущих травой коров, «когда они в сумерках медленно шагают домой», какое это удовольствие — «слышать далекий перезвоны